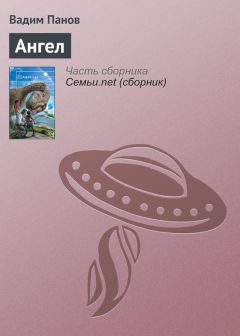Он слишком близко. Непозволительно близко. Касается ее, парализует тело, душу, волю…
— Горыныч, не надо. Ты же обещал… Саш, я все-таки домой поеду. Спасибо за ужин…
Арина захотела встать, сбежать от него, пока не сдалась глупым своим мечтаниям, но…
— Аришка, останься. Я прошу тебя, останься.
Внутри все замерло от голоса, полного мольбы, не смея ни поддаться, ни увернуться от желанного мужчины. И ничего Арина не может с собой поделать. Он склонился к ней, лбом к ее лбу прижался… По ее щеке провел ладонью, большим пальцем с нажимом прошелся по губам ее, будто желая проверить, все такие же ли они мягкие, податливые, как были когда-то, и замер. Да, они такие же, какими он их помнит: мягкие, теплые и отзывчивые — от одного его прикосновения чуть приоткрылись… Глаза у Горского потемнели. Арина, позабыв дышать, всматривалась в поглощающую разум темную бездну и понимала, что сдается и ждет лишь одного — когда вместо пальца на ее губах окажутся его губы. Он же поцелует? Он же не оставит ей возможности засомневаться, поумнеть и сбежать отсюда?
Но он не торопился. Все еще боялся прикоснуться. Все еще боялся, что упрямая гордая женщина оттолкнет, посчитав его напор возмутительным. Он же обещал не приставать… Но ждать уже не может — до обидных слез жалко потерянных лет, и терять еще хотя б минуту он не намерен. И до чертиков хочется припасть к этим мягким, податливым губам. Обнять ее, как женщину любимую. Раздеть и уложить в постель. С собою рядом, а лучше — под себя. И до самого утра просить прощение за все причиненные обиды, за все ее слезы и несбывшиеся, украденные, растоптанные им мечты. Обещать, что теперь-то все будет по-другому. Снова, как и много лет назад, вместе с ней строить надежды и мечтать о будущем. «Аришка, не гони меня», — прикрыв глаза, молил он молчаливо и терся носом об ее щеку.
Наконец, решившись, коснулся ее губ — осторожно, неспешно. Не встретив сопротивления, скользнул рукой к ее затылку и, придерживая, коснулся еще раз — уже уверенней, напористей… Никогда не думал, что сможет так волноваться, целуя женщину — а вот волнуется. Гладит волосы ее, а руки трясутся. Целует отрывисто, нервно… Другая б уже давно лежала под ним, а эту целовать страшно — вдруг сбежит, вдруг прогонит. И чувства ее ему не союзники — и любя, и прощая все, она оттолкнуть может. Но не спешит она его отталкивать. Только вдруг глаза прикрыла и заплакала — тихо так, беззвучно…
— Аришка, ты чего? — чуть отстранился Горский, испугавшись ее слез. — Я опять тебя обидел? Родная, не плачь, я не трону…
В ответ коснулись его лица ее пальцы. Чуть дрожа, прошлись они по щетине его, по скулам, из закоулков памяти выуживая воспоминания, как уже когда-то вот так его касались… Плача, Арина сама к губам его жадно прильнула.
Глубокая ночь, спят давно постояльцы, но в окне одного из номеров Арининого отеля все еще горит свет. Два человека на диване отчаянно вспоминали друг друга. Ругая себя, кляня за предательство, обнимал муж свою жену, целовал и не знал, кому молиться, чтобы навсегда стерлись из ее памяти обиды, чтоб не плакала больше, глядя на него, чтоб поверила, доверилась и к нему вернулась.
Арина сдалась, не сопротивлялась больше. Может, и не совсем пока, только на одну сегодняшнюю ночь, но сдалась. Резко отстранившись, с грохотом отодвинул Горский от дивана маленький столик. Растерянную жену свою подхватил как былинку и потащил на кровать — усадил Арину на краешек и на колени перед ней опустился. Подполз вплотную, ноги ее раздвигая, за бедра обнял и в глаза заглянул.
— Прости меня, Аришка! Родная моя женщина, прости! — с отчаянием, с мольбой зазвучали его слова.
— Обними меня, — еле слышно ответила Арина.
И он обнял. К животу ее щекой припал, в кулаках сжимая пушистую ткань халата. А под ним дрожит ее тело — чувствует Горский и дрожь, и жар ее кожи, и стук разбитого сердечка.
— Прости меня, Аришка…
Чуть отстранился, опустился и к Арининой коленке губами осторожно прикоснулся, целуя выше, выше, выше… Полы халата отодвигая, бедра ее напряженные ласково гладя. К черту халат! К пояску потянулся, халат стянул и вперед подался — гладя спину ее, целовал живот, ложбинку, груди и с упоением ощущал, как Арина склонилась, обняла его и ему в макушку носиком уткнулась; дождалась, пока приподнимется, и, отчаянно целуя, к пуговичкам на рубашке его потянулась…
Полетела к чертям собачьим его рубашка. А следом — все остальное. Арина прошлась взглядом по телу своего мужа — ее ведь мужчина, законный! Такой красивый, возмужавший, взрослый… Таких кастрировать с рождения нужно, не дожидаясь ливней женских слез. Злость на его любовниц захлестнула Арину — по какому праву столько лет они трогали то, что только ей принадлежит по закону?
— Кобель ты проклятый! — прошептала она в сердцах. — Ненавижу тебя, Горский! И баб твоих ненавижу…
— Ненавидь, родная, только любить не прекращай, ладно? — наползая, укрывая ее своим телом, прошептал Горский.
Двадцать лет она никого к себе не подпускала, храня верность неверному мужу, отвыкла она от мужской ласки — ей страшно немножко, и терзают мысли, что теперь разочарует его, искушенного, пресытившегося, своей неумелостью. Но он целует так жадно, что сомнения отступают — этому кобелю проклятому сегодня она одна нужна. И вот лежит она среди подушек, ощущая жар и тяжесть мужского тела, и чувствует, как под шквалом его поцелуев восстает из пепла ее женская сущность — возрождается в ласковых объятиях и тянется к своему мужчине.
Совсем ведь голову потеряла… А Горскому только это и надо. Не останавливаясь, целует приоткрытые губы ее, шею, грудь, живот… Обнимает, гладит, подчиняет, и наконец берет ее нежно, мягко, осторожно, не оставляя ни секунды ей на сомнения. И нежность, и мягкость его иллюзорны: захочет она остановить, уйти, оставить его — не даст. Нагло пользуется ее слабостью перед ним, понимая, что другого шанса может и не быть. И если Арина решит вдруг завтра от него отказаться, если вспомнит в очередной раз о гордости и всех своих обидах и решит, что порознь им все-таки будет