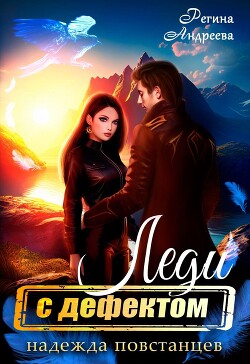И крадусь вдоль стены я потому бесшумно.
Привыкаю окончательно к мраку, в котором видеть получается. И приоткрытую в капеллу дверь я замечаю, пересекаю перебежками двор, чтоб на крыльцо подняться и внутрь осторожно заглянуть.
Оценить обстановку.
Мертвую тишину, которой быть не может, если внутри кто-то есть.
И света, кроме лунного, в капелле нет.
И именно поэтому темную фигуру я замечаю в последний момент, тогда, когда решаю искать дальше, не здесь. Я почти отталкиваюсь от холодной стены, когда чёрная тень шевелится, собирается в человека.
В Любоша.
Он сидит, запрокинув голову, у дальней стены, на полу.
Мажет на мгновение по его светлым волосам и чубу лунный свет, даёт опознать. И внутрь, стараясь не шуметь, я захожу.
Иду к нему.
Тихо, но… нельзя не заметить, вот только он не замечает, не видит.
Лучший друг Север, когда я подхожу совсем близко и могу разглядеть, сидит с закрытыми глазами, с каким-то восковым, неживым, лицом. И если бы не пульсирующая на шее жила, что видна в вороте расстегнутой рубашки, то за мертвого его принять было б можно.
— Эй…
— Ты… — он, вздрагивая и открывая глаза, неожиданно усмехается.
— Где Ветка?
— Ветка… — Любош повторяет эхом, поднимается, шаря рукой по камням за спиной, как-то нелепо и неловко, не отлипает от стены. — Ты её Север зовешь, а я Крайновой. Ты знаешь, правильно её зовешь. Метко. Вроде обжигает, а холодно. Удивительная способность, со всеми быть на «ты», но на непреодолимой дистанции.
— Ты чего мелишь? — вопрос вырывается на русском.
А кулаки сжимаются сами.
И врезать быть, но не время и не место.
И про Север мне узнать надо.
— Она там, — он, словно понимая, отвечает, мотает головой, указывая подбородком куда-то мне за спину. — И они там.
Нельзя оборачиваться, нельзя поворачиваться к нему спиной. По здравому смыслу и предосторожности нельзя.
Но я оглядываюсь.
Вижу тёмный, ведущий в черноту, провал в полу. Он слева, если от алтаря, в котором что-то неуловимо изменилось.
Или не в нём, но… разбираться времени нет. Главное, что Север с средневековыми механизмами разобралась, спустилась туда.
— А ты тут остался? — я спрашиваю проникновенно.
Негромко от всё той же предосторожности или бешенства.
Ярости.
И опасаться Любоша не выходит. Он не опасен. Он ничего не сделает. Такие даже со спины не бьют и тем более не убивают.
Он не способен.
— Я увидел, как Крайнову в машину толкают, хотел номера сфотографировать и полицию… — Любош рассказывает апатично, поводит плечами. — А телефон разбился. Там кричать на помощь было бесполезно, все орут. Шумно. Я не знал, что делать.
И потому решил ехать за ними.
Молодец.
Последнее, пока он вещает, я произношу мысленно, подхожу к краю провала, от которого сыростью и камнем несет.
Тянет лютым холодом.
— Они её сюда приволокли, я следил. И проход этот, — Любош запинается, кривится, когда быстрый взгляд я на него бросаю. — Они заставили её открыть. Откуда она знает?
Оттуда, сообразила.
И потому что жить хочется.
Они же не станут убивать, пока Север будет соображать, пока к городу будет вести и потом, пока камень из серебряного Собора она будет доставать. А это время, то самое время, которое у меня есть.
Я прислушиваюсь, опускаясь на корточки, к ватной, плотной, тишине провала. Ни звука, ни света, непроглядная тьма.
Далеко они в этой тьме ушли?
— Они все. Туда. А я… я не смог. Их двое и у них пистолет.
— А она одна.
— И у неё нет шансов, — он говорит спокойно, констатирует.
Так, что врезать вновь хочется.
Сломать челюсть, чтоб месяц говорить не мог, а после добавить.
— Заткнись.
— Это правда, Дим, — Любош не затыкается, смотрит прямо, и мой взгляд он выдерживает. — Ты русский, а меня ещё в детстве возили сюда на экскурсии. Я знаю, какие здесь шахты. А они, как понимаю, спустились в часть системы, в штольню, которую построили в пятнадцатом, а то и раньше веке. Они все затоплены, ненадежны. Может вначале, первый уровень, ещё держится и они сколько-то пройдут, но дальше вода. Это самоубийство. Им никому не выбраться.
— И всё же.
— Я не полезу, — Любош отчеканивает, сжимает кулаки. — И тебе не советую. Ты её не спасешь. Только сам погибнешь. Медленно и мучительно. Или быстро, если их догонишь и тебя застрелят. Правда, стрелять там тоже самоубийство, но они психи. А я… ты знаешь, я понял, что не готов. Не могу. Я люблю Крайнову, я всю жизнь люблю только её, но я не стану…
Рисковать своей жизнью ради неё, я понял.
Соваться вслед за ними, пистолетом и Крайновой лучший друг Север не станет. Можно не просить о помощи и не уговаривать. Пусть она остается там одна, с двумя психами, один из которых уже убивал.
И её убьет, не пожалеет.
— Один шанс из ста, что они выберутся. Ты что делаешь?
— Ничего, — я пожимаю плечами, повисаю на руках, пытаясь нащупать под ногами землю, но пусто, а значит придется прыгать. — Просто либо я с ней, либо никак. Ты, если чего, моим так и передай. Ладно?
Они поймут.
Пусть не сразу, но поймут.
А то, что я их люблю, они и так знают, не надо передавать, да и… у нас с Север целый шанс, один из ста и на двоих, но есть.
Мы выберемся.
[1] Главный герой сериала «Сыны анархии».
Глава 53
Квета
Я прихожу в себя рывком, будто по щелчку. Открываю глаза, когда… стылая вода чернильного омута отпускает меня насовсем. Перестает утягивать вниз, в темноту, под ледяную толщу, где непроглядный мрак и невозможный холод, где быть нельзя.
А потому наверх.
Подальше от чёрной-чёрной тяжёлой воды, что давит, облепляет со всех сторон, душит, а после вдруг отступает, отползает, давая вынырнуть.
И судорожный вдох я делаю.
Вижу над пустым алтарем распятие. Оно же, выступая из стены, из стороны в сторону покачивается, плывет. Размывается пред глазами алтарь-престол, бока которого резные, с узорами и символами.
Ещё там рельефные птицы.
Каменные грифоны и львы, что… в жуткой улыбке скалятся.
Искажаются.
А мой мир туманится, раскачивается до горячей боли, которая внутри головы расползается, растекается от висков и до затылка, пульсирует. Она не даёт думать, и получается только смотреть, разглядывать фигуру Христа.
Перевернутую.
Как и всё остальное, потому что на деревянной скамье, повернув голову, я лежу. Не могу пошевелить.
Ни руками, ни ногами.
Они связаны.
А рот заклеен, надёжно, не заговоришь.
И говорят другие.
— …у нас есть часа два. Пока её потеряют, пока начнут искать.
— А этот?
— Он в Кромержиже, не успеет…
Знакомо-незнакомые голоса.
Обрывчатый диалог, что ведется почему-то на английском. На чужом языке, который я признаю с трудом, перевожу медленно, пропуская часть слов, что тише остальных звучат, будто знакомо-незнакомые голоса то удаляются, то приближаются. Пробиваются сквозь боль и звон в ушах через раз.
А звон этот трансформируется, делается неразборчивым шёпотом, призрачным.
— …она ещё не пришла в себя. Ты ударил её сильнее, чем требовалось!
— Переживаешь?
— Она нужна живой, Войцех, если…
— Если не будет, Ворон. Она жива.
Пожалуй.
Я жива, пусть мир ещё и двоится.
Кружится голова, закрываются глаза, и в разговор, который обо мне, не вникается. Он пропускается мимо, а я разглядываю то, что от заалтарных картин осталось. Каменные рамы, завитушки, лепнина.
Опять символы.
Они складываются в черточки, как на алтаре.
И в прошлый раз мы на него внимания не обратили, а Марта отчего-то промолчала. Она не рассказала о диптихе, который в капелле Рудгардов когда-то был. Два изображения святых или, быть может, сцены из Завета, которые слева и справа от престола в богатом и резном обрамлении высились.