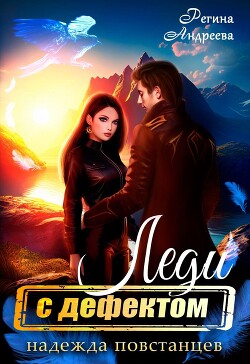Можно попытаться, но… нет, не сейчас. Я не успею, они заметят быстро и ещё быстрее догонят, ударят или сразу выстрелят. И проверять, что конкретно сделают, у меня не хватает смелости, поэтому стоять на месте, ловя предупреждающий, словно читающий, взгляд Войцеха, я продолжаю.
Только закусываю по старой привычке нижнюю губу.
И от боли сразу шиплю.
А дверь, вторя мне, протяжно скрежещет, приоткрывается медленно, проваливаясь внутрь, откуда ещё больший холод выползает.
Он сковывает.
Перехватывает дыхание.
Или не от холода это, а… страха.
И ещё от отдающего трепетом волнения, неправильного любопытства, которое несмотря ни на что вспыхивает где-то под сердцем.
Город.
Серебряный город, который Альжбета называла мечтой.
Он в паре метрах, шагах от меня.
Какой он?
…желание целого императора Священной империи, подарок одного отца и игрушка одного любимого всеми ребёнка…
— Дамы вперёд, — Войцех предлагает учтиво.
Издевательски.
Отходит в сторону, пропуская меня, когда щель становится достаточной, чтобы пройти всем. И руками приглашающий жест он изображает.
И… и он меня не убьет, не в эту минуту.
Рано бояться.
Ему ещё нужен камень, что спрятан в большом городе, в одном из многих домов, в тайнике, о котором они ничего не знают, а поэтому я пока нужна. Меня не запрут в этой комнате, оставляя умирать долго и медленно, не сейчас. Мне не выстрелят в спину, пока. Меня не сожрут чудовища из темноты и детских страхов.
Там, за открытой наполовину дверью, только город.
И надо взять себя в руки.
Даже если эти самые руки мелко дрожат, надо себя в них взять, зайти в эту черноту и темноту, в комнату, которую не открывали веками, в которой последней была Альжбета. Она вышла после всех, задержалась на пороге, прощаясь и запоминая свой город.
Я теперь знаю.
И порог всё-таки переступаю.
Приподнимаю фонарь, свет которого выхватывает…
…шпили, острые и увенчанные кугелями, флюгерами…
…крыши домов…
…храм Барборы, что над всем городом высится…
Только вот больше не сверкает ни в каких лучах серебро, и готические шатры главного собора толстым слоем пыли покрылись. Теряются в ней статуи по фасаду, резьба на капителях и замысловатые переплеты окон.
Тут нет былого, как и у настоящей Кутна-Горы, величия.
Однако, завораживает.
Всё одно поражает.
И на какой-то миг забывается, растворяется, как несущественное и ничтожное, что-то выговаривающий Войцех, само подземелье, смерть. Оно всё пропадает, потому что значения не имеет. Не может быть важным, когда я вижу город, его дома, за дверями которых миниатюрные куклы и обставленные гостиные.
Спальни и кабинеты.
Большие и малые залы.
Кухни, прачечные, швейные.
Комнаты, предназначение которых мне не узнать. И можно лишь предположить, что вон то низкое одноэтажное здание — ремесленная мастерская. А вон там Влашский — иной, скорее угадываемый, чем узнаваемый — двор.
И люди.
Тут и там, за резными дверцами, целая жизнь.
Жизнь тех, кого давно нет.
Они умерли и в то же время остались здесь.
И к ним можно прикоснуться.
Можно взглянуть, какой она была Гора Кутна в шестнадцатом веке, кто в ней жил. И к расставленным прямо на полу домам, что доходят мне до колен, я подхожу осторожно. Двигаюсь медленно, чтоб у ближайшего двухэтажного дома присесть, потянуть на себя изо всех сил изящные ручки, открыть дверцы.
Подглядеть.
Вечер в кругу семьи, разговор двух мужчин за столом.
Три беседующие у окна дамы.
Камин.
И браны, которые со свечами.
— Нашла таки, наследница, — Войцех выговаривает с непонятной интонацией.
И удовлетворенно, и раздраженно.
Громко.
Так, что бьется о реальность очарование города. Исчезает наваждение и ощущение чуда, которое увидеть я смогла, дотронулась. И дом я закрываю, поднимаюсь с колен, пока он не подошел и за волосы в очередной раз не дёрнул.
Я сама.
И встану, и к нему повернусь.
— Камень-то она куда спрятала?
— В собор, — я отвечаю, помедлив, завожу за голову руки, чтобы цепочку с помандером расстегнуть, снять его. — Собор Барборы ей подарил Владислав и устроил там тайник, который можно открыть разделенным на две части ключом.
— Так открывай, наследница, — он приказывает.
И смотреть в его глаза сложно.
Но я смотрю.
Выдерживаю пристальный взгляд из вредности, которой мне не занимать, а ещё из гордости, которой у меня тоже много, от бабички и всех предков заодно. Я не имею права испугаться и сдаться.
Из-за них не имею.
И из-за саламандры, что храбрость олицетворяет.
А потому показать страх и зажмуриться я тоже не могу, даже если очень хочется, даже если есть желание забиться в истерике и закричать.
Мне нельзя.
Даже если меня изучают столь равнодушно и жутко, отсчитывают, сколько минут на жизнь мне ещё оставить. Их ведь мало осталось, этих минут, совсем мало. И ждать помощи, кажется, больше не надо.
Меня не спасут.
Не успеют.
— Открывай, наследница, — Войцех повторяет с нажимом.
Открою.
Проберусь между домами к собору, опущусь перед ним на колени и глухо скрипнувшие дверцы раскрою. Обведу взглядом скамьи хора, скульптуры, потемневшие, скорее угадываемые, чем видимые фрески в капеллах.
Алтарь.
Опять.
Куда кладут, пусть и из камней, сердце?
— На алтарь, — я отвечаю сама себе едва слышно.
Вытаскиваю престол, что из серебра, с филигранью и камнями по бокам, с выемками на поверхности, на которой Евангелие, кресты и лампада в настоящей церкви лежат. Тут же, подобно язычникам, место для сердца из рубинов.
Его нужно положить на алтарь.
Вставить, соединяя, два рубина, нажать на них, чтобы нижняя часть, оказавшись ящичком, вперёд выдвинулась, открылась…
— Тут… — Алехандро произносит совсем рядом.
Подходит незаметно и когда-то.
Начинает говорить, когда я неверяще моргаю и глаза от этакой шкатулки поднимаю. Вижу Войцеха, который тоже подходит, подкрадывается, чтобы счёт свой закончить, досчитать мою жизнь до конца.
Но… обойдется.
Или хотя бы не сразу, не легко и просто он её оборвет. Мне ведь всё равно уже нечего терять, нет смысла надеяться на какой-то шанс и ждать.
И бояться поздно.
А значит, можно попытаться, подпортить ему хотя бы физиономию. Два раза всё одно не умирать, а один мне так и так, видимо. Только не как послушной овце, которую прирезать он, видимо, решил.
И нож, что мелькает в его руке, поэтому достал.
— Твой камень, Войцех, — я проговариваю быстро.
Швыряю в него алтарь.
Разворачиваюсь к Алехандро, чтобы браслетом по лицу полоснуть. У моих серебряных саламандр ведь острые лапы, и если постараться, то пальцем к ладони браслет прижать можно.
Оцарапать до крови.
И рука Алехандро к щеке взлетает невольно. Он покачивается, кажется, от неожиданности. Не удерживается, когда изо всех сил я его толкаю, подбираю подол платья, чтобы к двери броситься, оказаться по ту сторону.
И нет, закрыть дверь я не успею.
Они очухаются раньше.
А значит, надо бежать.
Как… как никогда и нигде не бегала. Как не неслась даже в Эрлангене по тоже узким проулкам и булыжным тротуарам, потому что — здесь и сейчас — форы куда меньше, всего пара секунд, которые закончатся уже в эту минуту.
Денутся куда-то даже раньше, потому что выстрел звучит.
— Квета!!!
Догоняет.
Крик Алехандро.
Ещё один выстрел, что всё пространство заполняет, бьет со всей дури по ушам и голове, отчего перед глазами на миг темнеет. Покачивается вдруг мир, а я пошатываюсь, хватаюсь за стену у самой двери, до которой почти добежала.
Только почти, говорят, не считается.
А потому горячо.
Где-то в животе вдруг делается, словно кипятком облили или лавой. Наверное, ею обжигает так же, не больно, только горячо-горячо. И почему-то мокро, липко, когда онемевшими пальцами я дотрагиваюсь, касаюсь влажной ткани.