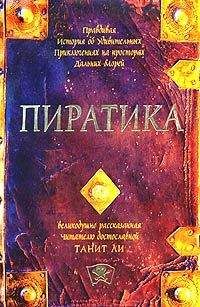— Все?
— Все, кто верует, — уточняет она.
Шайла из тех, кто заново утвердился в вере, что совершенно неудивительно. Но мне все равно неуютно, как будто она говорит о том, что мне такое право — попасть на небеса — не даровано.
— Когда мама лежала в больнице, — говорю я, — ее раввин рассказал такую историю. И на небесах, и в аду люди сидят за праздничным столом, заставленным удивительными яствами, но никому нельзя сгибать руки в локтях. В аду все голодают, потому что не могут себя накормить. А на небесах все наедаются до отвала, потому что, чтобы накормить друг друга, не нужно сгибать руку.
Я чувствую на себе взгляд Джозефа.
— Мистер Вебер! — подбадривает Мардж.
Я думаю, что Джозеф проигнорирует обращение или, как обычно, покачает головой. Но, к моему удивлению, он отвечает:
— Когда человек умирает, он умирает. И все заканчивается.
Эти резкие слова окутывают присутствующих, словно саван.
— Прошу прощения, — извиняется он и выходит из зала.
Я нахожу его в коридоре церкви.
— История, которую вы рассказали, — говорит Джозеф, — о праздничном столе… Вы сами-то в нее верите?
— Хотелось бы верить, — отвечаю я. — Ради мамы.
— Но ваш раввин…
— Он не мой раввин, а мамин.
Я направляюсь к двери.
— Вы верите в жизнь после смерти? — с любопытством спрашивает Джозеф.
— А вы нет?
— Я верю в ад… Но он здесь, на земле. — Старик качает головой. — В хороших и плохих людей. Если бы все было так просто… В каждом человеке есть и то и другое.
— По-вашему, одно не может перевесить другое?
Джозеф останавливается.
— Это вы мне скажите, — отвечает он.
Его слова словно обжигают, мой шрам начинает гореть.
— Почему вы никогда не спрашиваете, как это произошло? — не подумав, говорю я.
— Что «это»?
Я обвожу рукой лицо.
— Ах, это! Как-то давным-давно мне сказали, что история сама себя расскажет, когда время придет. Я решил, что время еще не настало.
Странная мысль: то, что со мной произошло, — не моя история, а нечто существующее совершенно обособленно от меня. Неужели вся моя проблема в том, что я не способна отделить одно от другого?
— Автомобильная авария, — говорю я.
Джозеф кивает, ожидая продолжения.
— И пострадала не я одна, — удается выдавить мне, хотя слова душат.
— Но вы выжили. — Он нежно касается моего плеча. — Может быть, только это и имеет значение.
Я качаю головой.
— Хотелось бы мне в это верить.
Джозеф смотрит на меня.
— Разве не всем нам этого хочется? — говорит он.
На следующий день Джозеф не приходит в булочную. И еще через день его тоже нет. Я прихожу к единственно возможному выводу: Джозеф без сознания лежит в своей кровати. Или того хуже.
За все годы моей работы в «Хлебе нашем насущном» я ни разу не оставляла булочную на ночь без присмотра. Мои вечера расписаны с военной точностью: я почти два километра прохожу по кухне до той минуты, когда разделяю тесто и формирую из него сотни буханок, пока они подходят и готовы выпекаться в разогретой духовке. Сама булочная становится живым, дышащим организмом. Каждый стол — новым партнером, ожидающим своей очереди потанцевать. Собьешься во времени — и будешь стоять одна в окружающем хаосе. Я ловлю себя на том, что начинаю спешить, пытаясь сделать то же количество работы за меньший отрезок времени. И понимаю: от меня будет мало толку, пока я не навещу Джозефа и не удостоверюсь, что он дышит.
Я еду к нему, вижу свет в кухне. Ева тут же заливается лаем. Джозеф открывает дверь.
— Сейдж! — удивленно восклицает он. Громко чихает и вытирает нос белым носовым платком. — Что случилось?
— Вы простыли, — констатирую я очевидное.
— Вы проделали весь этот путь, чтобы сообщить мне то, что я и так уже знаю?
— Нет. Я подумала… я хотела вас проведать… вас два дня не было видно.
— Апчхи! Как видите, я в состоянии самостоятельно стоять. — Он жестом приглашает меня в дом. — Зайдете?
— Не могу, — отвечаю я. — Мне на работу пора. — Но я не двигаюсь с места. — Я волновалась, когда вы не пришли в булочную.
Он молчит, раздумывая. Его рука лежит на ручке двери.
— Значит, вы приехали, чтобы убедиться, что я еще жив?
— Я приехала навестить друга.
— Друга… — повторяет Джозеф радостно. — Значит, мы теперь друзья?
Двадцатипятилетняя уродина и девяностолетний старик? Полагаю, бывают и более необычные парочки.
— Я польщен, — официальным тоном произносит Джозеф. — Увидимся завтра, Сейдж. А теперь вам пора на работу, чтобы завтра я смог полакомиться булочкой с кофе.
Через двадцать минут я возвращаюсь в булочную, выключаю шесть обозленных таймеров и пытаюсь оценить ущерб, причиненный моей самовольной часовой отлучкой. Некоторые буханки подошли слишком сильно; тесто перебродило и осело либо с одной, либо с другой стороны. Пострадает вся ночная выпечка, Мэри разорится. Завтра посетители уйдут с пустыми руками.
Я заливаюсь слезами.
Не знаю точно, что стало причиной слез: то ли беда в кухне, то ли боязнь потерять Джозефа, когда я только-только его нашла. Я и не представляла, что так из-за него расстроюсь. Не знаю, сколько еще потерь я смогу пережить.
Как бы мне хотелось печь для мамы! Багеты, шоколадные булочки и бриоши… И чтобы они горкой высились на ее столе на небесах. Как бы мне хотелось быть той, кто ее накормит. Но я не могу. Как Джозеф и сказал: когда человек умирает, все заканчивается. И не важно, какими сказками о жизни после смерти мы, выжившие, готовы себя кормить!
Но это… Я обвожу кухню взглядом. Это я могу поправить, если быстро замешу тесто и дам ему еще раз подняться.
Поэтому я начинаю месить. Месить, месить…
На следующий день случается чудо.
Мэри, которая сначала злится и разговаривает сквозь зубы из-за меньшего количества ночной выпечки, разрезает чиабатту.
— А мне что прикажешь делать, Сейдж? — вздыхает она. — Сказать покупателям, чтобы отправлялись в булочную к Руди?
Руди — наш конкурент.
— Ты могла бы пообещать им скидку на следующую покупку.
— Скидками сыт не будешь.
Когда она спрашивает, что произошло, я говорю неправду. Объясняю, что у меня случилась мигрень и я на два часа заснула.
— Больше такого не повторится.
Мэри поджимает губы, что свидетельствует о том, что она меня пока не простила. Потом берет кусок хлеба, собираясь намазать его клубничным вареньем.
Только не успевает этого сделать.
— Иисус, Мария и Иосиф! — восклицает она, задыхаясь, роняет кусок хлеба, словно он обжег ей руку, и тычет в него пальцем.