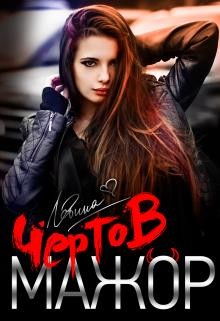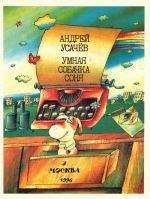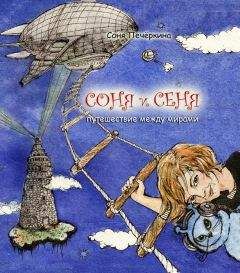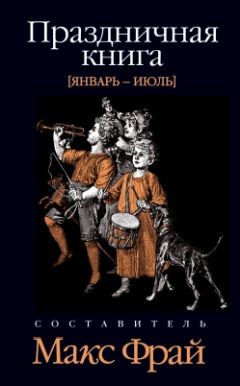— Ну, знаешь, иногда она мне говорила “Что с тобой не так?” Она это не у меня даже, а у себя спрашивала. Иногда мне кажется, что она просто не могла придумать, за что меня полюбить также сильно, как Серёжу. И со временем я стала хотеть разочаровать их. Папеньку, маму. Я хотела, чтобы папенька меня не хотел обратно, чтобы мама не видела во мне ничего хорошего и любимого, — горло снова сковало. — Мне стало нравиться быть отшельницей. Максимально отдалить их, чтобы они поняли, как я им нужна… Теперь, когда желание исполнилось, я больше не хочу. Как в сказке… В… какой?
— Питер Пен? — предположил ты, касаясь моего виска губами. — Или “Простоквашино”?
Мы продолжали сидеть на балконе так долго, что я начала замерзать, и чем холоднее становилось, тем больше ты меня в себя укутывал, тем больше прикасался, гладил, натягивал на меня своё тепло. Я смотрела на тебя и думала о скулах, как у молодого Деппа. О твоём чётко обрисованном профиле “идеального” мальчика, который настолько тошнотворно хорош, что хочется это исправить. Мы сидели, и я понимала, что становится чуть веселее, по крайней мере, не было желания взять в руки телефон.
Глава 6. Райт нау в 2019-м
У меня сложные отношения с мамой.
Мама меня не понимает.
Всё пошло с детства. С мамы.
Я никогда не говорила с мамой по душам.
Мы с мамой не близки.
Маленький и жалкий список из сотни похожих фраз, описывающих отношения с самым близким человеком. С него начинается жизнь. С него закладывается наше отношение к семье. К нашим собственным детям, к нашим мужчинам. К нашим женщинам. К сексу, взрослению, питанию, стилю… У кого-то больше, у кого-то меньше. Это как волна, которая лижет берег, она может остановиться в любом месте. Может осторожно обнять сантиметров тридцать песка, а может как цунами затопить всю твою жизнь.
“Мама” может закончиться в пять, в десять лет, в пятнадцать, как ты захочешь или она захочет, или судьба распорядится. Может не закончиться никогда. А может стать снова мамой спустя много лет. Универсальный человек, который всегда имеет право вернуться, и к которому всегда можешь вернуться ты, если у вас есть на это силы и внутренние ресурсы.
Что я запомнила на всю жизнь?
Что главная ошибка, которую я когда-то совершила с мамой — перестала нуждаться в ней. Даже в мелочах. Нельзя вырастать из этой маминой любви, как из детской куртки… Даже когда покажется, что ты знаешь мир лучше, что ты выше, что для этой женщины ты теперь покровитель, что теперь ты заботишься о ней, а не наоборот.
Настал момент, когда я поняла, что она должна оставаться всемогущей, она должна быть нужна. А я это потеряла. Выросла из неё, перестала хотеть её внимания и любви, а она… расслабилась. Стала стремительно опускаться, позволяя мне заполнять её мир своей значимой высоченной фигурой.
Снисходительное “мама”, когда говоришь с Маней. Напряжённое “мама”, когда говоришь с папой. Насмешливое “мама”, когда говоришь с мужем. И самое любимое: “Бабушка”, когда говоришь с детьми.
И как же я не хотела оказаться в том же положении. Как же я не хотела, чтобы из меня, как из куртки, выросла Соня. Стала считать меня устаревшей и не продвинутой, стала учить меня. Перестала спрашивать что-то у меня.
Я стою в аэропорту и смотрю на мать Марка, пересчитывающую сумки. Его отец держит за руку Егора, а тот пытается что-то ему объяснить, но Максим не самый нежный и трепетный дед, чтобы всё бросать и сюсюкать с ребёнком на пустом месте, однако он тот, в ком я, как ни странно, уверена. Если бы мне сказали, что завтра меня не станет, пожалуй, я отвезла бы детей к Максиму. Да, Марк прекрасный отец, безусловно, но я не дала ему проявить самостоятельность в этом вопросе за все наши десять лет.
— Спасибо, — говорю я, и мой голос повисает над головами детей, витает в воздухе, пока не достигает ушей свекрови.
Шокирует, но Марк из мамы… не вырос. Нет, он не маменькин сынок, как раз наоборот, но она не превратилась для него во взрослого ребёнка, которому нужны помощь и опека, хоть и путалась иногда в телефоне и пускала вирусы на компьютер. Он уважал и её, и отца. До сих пор.
С того дня, как они помирились, эти люди опять стали его друзьями и партнёрами, а я-то думала, что они мерзкий народец, ни во что его не ставящий. Я когда-то очень удивилась, какие они на самом деле. И вот теперь эта женщина, с которой мы нашли общий язык спустя столько лет, увозила моих детей, а я пыталась в эти последние минуты с ней понять… что же, блин, она делала правильно? Почему её не боятся, а уважают. Она не сюсюкает с моими детьми, а если делает это мне в глаза, я знаю, это она насмехается надо мной. И с ней, как выяснилось, можно говорить и дружить. Мне становится стыдно за колючесть, закрадывается подозрение, что все эти годы я просто не давала нам подружиться, придумывая себе ветряные мельницы, и щёки краснеют.
Свекровь подходит ко мне и пристально смотрит в глаза, а потом вздёргивает одну бровь:
— Неля?
И мне хочется, чтобы она меня обняла. Я хочу узнать её поближе, сейчас, когда мы стоим в аэропорту и вот-вот попрощаемся. Мне становится страшно, что если не налажу отношения с Марком — больше не увижу ни его отца, ни его мать. И как когда-то давно, лет десять назад, скребут в горле и душат девчачьи слёзы.
— Ты какая-то бледная, — говорит Софья Марковна.
— Нет-нет…
— Как прошло с Марком?
— Никак, я сбежала.
— Почему?
— Мне нужно время.
И она кивает. Она кивает, и я снова стыжусь, видимо, краснею, и её взгляд ещё больше вцепляется в меня, но не осуждает. Я делала монстра из этой женщины. Сама. А сейчас хочу обнять.
— Ты справишься. Я позабочусь о детях. Егор…
— Вы уверены?
— Слушай, — говорит она и… берёт меня за руку. Смотрит на наши переплетённые пальцы. У меня смелый алый маникюр, а у неё аккуратный фрэнч. — Я знаю, что ты на меня обижаешься и считаешь, что я не люблю своих внуков, — говорит она так, что меня бросает в холодный пот, но хочу слушать дальше. Внезапно понимаю, что она чем-то на меня похожа. — Я не нежная бабушка, как и Максим не нежный дедушка…
Мы обе поворачиваемся к нему — он как раз закончил разбираться с билетами и теперь сидит напротив Егора и с серьёзным лицом ему кивает, слушая белиберду на непонятном выдуманном языке.
— …Но мы хотим этим детям лучшего. Всегда. И мы любим их, но не в наших правилах кричать об этом, и я смею предположить, что ты от нас в этом вопросе ушла недалеко. Не выдумывай. Мы не монстры.
— Я не… — впервые в жизни хочу оправдаться, но останавливаюсь. — Простите, вы правы.
— Я как-то сказала тебе про Егора… Прости. Он, конечно, наш, как и все остальные. Я верю тебе, но иногда ты слишком меня раздражала. Я, возможно, не была справедлива, но ты удивишься… я умею признавать ошибки.
Останавливаюсь у дома и понимаю, что на душе легче, чем когда-либо за последние… пять лет. Достаю телефон, нахожу номер мамы и удивлённо пялюсь на него. Мы так давно не созванивались, что его даже нет в “Недавних”. Смотрю. Смотрю. И звоню контакту “Маня”.
Я сижу во дворе в беседке и пью вино, жду Машу и понимаю, что нуждаюсь, чтобы в душе всё угомонилось, прежде чем вернуться в квартиру к Марку. Он сегодня в больнице до самого вечера, вчера я оставила его на ночь одного. Он понимает, какой сейчас год, понимает, что произошло, но всё в его голове причудливо смешалось, и я волнуюсь. Он уверен, что мы с ним разругались. Уверен, что яростно в меня влюблён. Вчера он хотел загнать меня в угол и, очевидно, трахнуть, но я не далась и сбежала. Я не готова, мне кажется, что всё это ложь.
Вчера я почувствовала себя перед ним девчонкой и поняла, что всё запутается, если вот так сдаться. Он же вспомнит. И возненавидит меня. Нет уж.