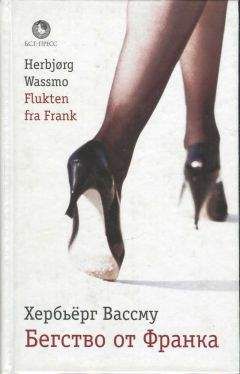В первую половину дня, когда я сидела в белом пластмассовом кресле на берегу, на границе между травой и водой появился какой-то человек. Он шел медленной и небрежной походкой.
Я следила за ним, пока он не скрылся слева между скалами. Мне так хотелось, чтобы это был Франк!
Чтобы смириться с тем, что это не Франк, я подумала, что дорожка, по которой шел этот человек, скорее всего когда-то была посыпана гравием и проходила между скалами и растущими на берегу растениями, она никогда не знала асфальта. Но море постепенно смывало ее, вот ее и заасфальтировали. Вообще-то она никуда не вела. Только к старой вышке и какому-то непонятному фундаменту, может быть, в свое время предназначенному для пушек. Впрочем, это типично для дорог, думала я. Идешь по дороге и вдруг понимаешь, что она ведет тебя совсем не туда, куда тебе нужно. Дороги — это движение к воображаемой цели. Или способ чего-то избежать. Пройти мимо.
Сейчас тот человек был Франком не больше, чем минуту назад. Я неожиданно почувствовала, что от этой серой грубой полоски между скалами исходит угроза. Как будто мне предстояло просидеть здесь до самой смерти, глядя на асфальт и не присутствуя в собственной жизни. Настроение, с которым я проснулась, исчезло. Просто я очень устала, с удивлением подумала я. Это ощущение было почти физическим. «Как сильное горе», захотелось мне записать в своем блокноте. Но почему? Что я, собственно, знала о горе? Не считая одного случая. С грузовиком. Каким эгоизмом должны обладать люди, которые в нашем мире претендуют на право испытывать личное горе!
Вскоре я передвинула кресло под сосну и попыталась читать газету. На песке был виден отпечаток чьей-то ноги. Он мешал мне. Длинный, узкий, с явным нажимом на пятку и на пальцы. Пружинистость шага заложена посередине между ними и не оставляет следов, подумала я. И увидела перед собой скрывшегося слева от меня человека, мой интерес к нему раздражал меня. Поэтому я решила поплавать, хотя вода, безусловно, была еще слишком холодна. Я представила себе, как она обтекает и лечит не только тело, но и шею и голову. Это помогло мне удержать на месте мысли, сидя сухой под большим тенистым деревом.
В тишине, наступившей после того, как гости отеля покинули веранду, отчетливее слышался шум волн. Глухой, но грозный гул. Волны взлетали с шуршанием, замирали на мгновение в воздухе и обрушивались на песок. От высоких сосен пахло хвоей. Я подняла глаза и, ощутив себя частицей этих больших ощетинившихся крон, испытала головокружение. Почти незаметную вибрацию, движение ветра или чего-то у себя в голове. Я подумала, что слово «хвоя» — это знак того, что мне следует записать. Почему-то я вспомнила о смоле. «Смолистый запах — это жизнь» будет написано в моей следующей книге. Мне трудно это объяснить, и это не имело никакого отношения к Франку. Но я так чувствовала. Огонь. Дерево. Две стихии. Одна — пожирает, другая — пожирается. Но пока я не найду нужных слов, записывать что-либо бесполезно.
Под крики детей на берегу и гул моря, то затихавший, то набиравший силу, у меня перед глазами возникла картина, изображавшая спину того человека. Его тень становилась все отчетливей, словно он ходил где-то позади этой картины и знал, что мне видна его тень. Что запах хвои только усиливает впечатление и оказывает целебное действие. Даже на то, чего исцелить нельзя. Из-за этого пейзаж изменил свой характер. Краски стали более явными. Розы на веранде переливались всеми мыслимыми оттенками красного. Хотя я видела, что им не хватает воды и удобрений и что они серьезно поражены вредителями. Мысль, что Франк будет элементом моей будущей рукописи, вместе с благосклонностью роз, ублаготворила меня. И я смогла увидеть, что за последние пятьдесят лет сосновые кроны немного подросли. Мощная сила вырывалась из земли, и пучки сухой травы дрожали на ветру, как молодые.
Я поняла, что в моей комнате в Осло такие мысли никогда бы не пришли мне в голову. И даже во время прогулок под деревьями Фрогнерпарка. Я еще не знала всех ключевых слов своей рукописи. Мне требовалось время и терпение, чтобы выявить все роли, в которых мне придется выступить. И, как ни странно, моя собственная роль была самая расплывчатая.
Люди, в том числе и настоящие, живут как бы случайно, в ожидании, пока их жизнь примет определенную форму. Это случайное и есть жестокость. Словно коса, срезающая траву под корень и оставляющая ее сохнуть на солнце, чтобы дать животным пищу. Или позволяющая траве гнить под дождем, даже не вспомнив о ней.
Какая-то девочка мешала мне, громко стуча мячом о плитки веранды. Тук, тук! Злобное создание, скрючившееся от агрессивности, в грязных шортах и майке. Она стучала мячом слишком близко от шаткого складного столика, за которым пили кофе старые, хорошо одетые супруги. Неожиданно с топчана встала женщина в коротких шортах, тень ее раздражения пала и на девочку и на меня. Это несомненно была мать девочки. Ее голос пролетел по воздуху подобно ножу с тонким лезвием. Оно вонзилось в ногу сосны. Острое и мстительное. Незагорелые ноги женщины выгнулись назад так, что колени спрятались в коленных чашках. Бедра напряглись, точно речь шла о жизни и смерти. Это помогло мне понять, что женщине не нравится ни она сама, ни ее дочь, ни жизнь вообще.
Такое поведение всегда вызывает во мне отвращение. Нахлынувшая тошнота заставила меня нагнуться и снова увидеть отпечаток ноги на песке. Я снова вспомнила того человека. Того, который ушел по заасфальтированной дорожке между скалами.
В отпечатке ноги я увидела мать и дочь. Принадлежал ли этот след ушедшему мужчине? Может, это и был ключ к тому, что я пыталась вспомнить? Мне казалось, что я видела его отвернувшееся от меня лицо, думая о том дне, когда слушала по радио мелодию «Послеполуденный отдых фавна». Я еще так и не купила себе проигрыватель для компакт-дисков. И не потрудилась выучить ту мелодию. Теперь она совершенно исчезла из моей головы. Так бывает со всем, что упустишь. Оно исчезает.
Какое отношение имела та забытая мелодия к этому мужчине? Какие тончайшие механизмы заставляют одну ассоциацию вызывать другую? Я спутала Франка с тем мужчиной. Действительность была нечеткой. Может, я ничего и не видела, кроме его спины? Что на нем было надето, белая майка и светлые джинсы? Был ли он босиком? И его ли это был след? Который я приспособила для своих нужд?
Когда я думаю о своем прошлом, оказывается, что оно всегда было населено людьми, присутствовавшими там временно. Всегда оказывалось, что им нужно было что-то другое. Поэтому они относились ко мне так, словно только и ждали, чтобы смениться с дежурства. Окружавшие меня лица и руки постоянно менялись, но, в основном, все они делали одно и то же. Одни хуже, другие лучше. Мягче. Или с улыбкой. Пусть это были мелочи, но именно благодаря таким мелочам одни часы казались мне лучше других. Необходим порядок и спокойствие, говорили они. Но порядка не было никогда. Нас словно сдали им на хранение, и мы знали об этом. И даже надеялись, на это.