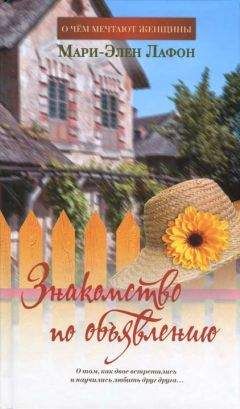Когда она работала кассиршей в супермаркете «Леклерк» в Байоле, то с первого взгляда выделяла в толпе покупателей крестьян, приезжавших в город раз в неделю за нужными товарами. Сразу было видно, что это люди небогатые: по продуктам, которыми они заполняли свои тележки, — ничего дорогого; по нерешительности, с какой перекладывали отобранное, — брать или не брать; по тревожным взглядам, исподтишка бросаемым на цифры, мелькавшие в окошечке кассы… Они никогда не задавали вопросов, никогда не спорили; в их поведении сквозила нарочитая медлительность и укоренившаяся робость перед городскими, потому что в городе, даже самом заштатном, люди двигаются быстрее, особенно молодежь, да, вот именно молодежь, — они не церемонятся, ничего не стесняются, поступают так, как им удобно.
Сорокашестилетний мужчина, встреча с которым ждала ее в Невере, тоже жил и работал на земле; наверное, он окажется неповоротливым, громоздким, неуклюжим. Она сознательно старалась не задумываться о конкретных деталях, например, какого цвета у него глаза или как он выглядит при указанном в объявлении росте. Ей и в голову не приходило сравнивать его с Дидье — худощавым, сухопарым, сохранившим тело двадцатилетнего парня, сжигаемого изнутри пороком. Нет, она не будет думать о Дидье, не должна о нем думать; Дидье сейчас в Дюнкерке, опустившийся и сломленный, с одутловатым лицом, гнилыми зубами, вонью перегара и пустым утренним взглядом. По правде сказать, она уже почти забыла тело Дидье и забыла бы его совсем, если бы не Эрик, в котором по возвращении из редких поездок в Дюнкерк иногда проскальзывало что-то отцовское, хотя в последнее время эти визиты сошли на нет — Дидье почти не бывал дома: или отсиживал очередной срок, или лежал в больнице, куда его отправляли на принудительное лечение от алкоголизма. Анетта не хотела, чтобы Эрик навещал отца в тюрьме. Нет, только не это. Тюрьма — не то место, куда водят мальчишку четырех, а потом шести, ну, пусть почти семи лет. Как и наркологическая клиника. Впрочем, Дидье и не настаивал на своем праве видеться с сыном, похоже, ему это было до лампочки, и постепенно они потеряли с ним всякую связь. А потом они уехали. Не могли не уехать. Она на все была готова. На любую борьбу. В том числе физическую. И для этого ей послужит ее тридцатисемилетнее тело, перенесшее столько унижений, но не утратившее тяги к нежности.
В тот понедельник 19 ноября, в Невере, Анетта, хоть и смотрела все время на Поля, так и не разглядела, какое у него тело. Все ее внимание было без остатка поглощено его речью. И созерцанием его рук. Потому что они тоже говорили, подтверждая произнесенные слова, поддерживая их или прижимая ладонями к столу и заполняя паузы; они подрагивали, как будто по ним пробегали приглушенные разряды, казалось, они пытаются сообщить, по-своему выразить что-то еще, о чем молчал Поль, что оставалось погребено под ворохом сказанного вслух. Ни он, ни Анетта не собирались выковыривать и извлекать наружу это недосказанное. Ни ему, ни ей вовсе не хотелось растравлять старые раны одиночества и страха; они понимали, что беспомощны и безоружны перед прошлым. Надо сделать по-другому. Надо затолкать обратно в глотку тошнотный вкус былых обид, вколотить их туда при помощи простых, обыденных слов, пригодных для описания и объяснения того, что существует сегодня: дом, два жилых этажа, здесь же коровник и сарай, сестра, дядьки, работа, скотина, молоко, сено, сельскохозяйственные машины, техника, безлюдье, зима, снег, грузовик бакалейщика, простор, звездное небо летом, тишина, школьный автобус для Эрика, собака Лола, куры, кролики, двор, клен и липы, огород и сад, в основном, конечно, огород, но и фруктовые деревья есть, морозилка для продуктов, соседи, почтальон. И еще вид из окна — необъятный. Эти обыкновенные слова нужны были Полю, чтобы на миг перенести сюда, в привокзальный буфет Невера, все почти тридцать лет его жизни во Фридьере — жизни, которую он не выбирал.
Что именно он хотел дать понять сидящей перед ним женщине, приехавшей в серой ноябрьской хмари с другого конца Франции? Какую истину он пытался извлечь с помощью слов, сам удивленный и немного растерянный перед их обилием и той легкостью, с какой они вырывались на свободу, словно сами собой, помимо его воли? К чему он возвращался снова и снова, кружа на одном месте, двигаясь на ощупь, облекая в понятную форму то, что почти не поддавалось выражению, особенно за второй чашкой какао, когда уже в вечерней темноте они опять пришли на вокзал перед тем, как проститься и разъехаться каждый к себе? Это хорошая жизнь, и в конце концов он научился находить в ней удовольствие — картину этой жизни он и старался нарисовать перед ней так, чтобы она воочию увидела ее в скупом ноябрьском свете. Фридьер, Канталь — это, конечно, очень далеко, но жить там можно.
Там можно так хорошо жить, что он, Поль, поместил в газете объявление — он сделал это только потому, что верил в то, что это возможно, а сейчас, глядя на сидевшую напротив Анетту, оглушенную потоком его слов, поверил в это с новой силой. Анетта слушала, не спуская глаз с его лежащих на бежевой столешнице рук, словно освещая их своим взглядом, и Поль узнал этот терпеливый взгляд, который заметил еще на фотографии, только сейчас он был живей и глубже. Фотография не лгала; с первой их встречи в Невере Поль почувствовал, что женщина с такими глазами, с таким бесконечным терпением во взоре и правда может приехать к нему во Фридьер, ну хотя бы попробовать, приехать и привезти с собой сына, и не важно, что скажут сестра и дядьки, да и все остальные.
На многочасовом обратном пути, в шумном тепле машины, Поль снова и снова возвращался мыслью к их встрече в Невере, слишком короткой встрече, всего-то несколько часов; пожалуй, он слишком много говорил, зато она почти ничего не рассказала, так, совсем чуть-чуть, про сына, про мать, про трудности с работой. Теперь надо какое-то время подождать, а потом снова встретиться в январе, может быть, на два дня — он предложил это, хотя знал, что уехать из Фридьера на целых два дня будет непросто, из-за скотины; ну, пусть не полных два дня, а так: вечер, ночь и утро следующего дня. Больше он ничего не добавил, потому что было произнесено слово «ночь»; она тоже промолчала. Ни один из них не проронил ни слова, но оба понимали: эта ночь им нужна, без нее не обойтись. Ну хорошо, договоримся, решили они, выберем подходящий день, созвонимся — в субботу или как-нибудь вечером на будущей неделе. Только позже до Поля вдруг дошло — он поразился, что раньше об этом не подумал, — что в следующий раз, если, конечно, он будет, этот следующий раз, ему надо будет поподробнее рассказать Анетте о Фридьере, чтобы она начала себе его представлять, тогда как ему самому совершенно незачем интересоваться Байолем. Как раз наоборот — Байоль должен быть забыт, вычеркнут из жизни, оставлен далеко позади. Разумеется, они немного о нем поговорят, покажут друг другу фотографии — они пообещали друг другу привезти фотографии, буквально несколько штук, три-четыре, не целый альбом, конечно. Но Полю незачем было знакомиться с Байолем. Он не вызывал в нем никакого любопытства. И он не собирался устраивать Анетте допрос. Зачем им вообще вспоминать про Байоль? Эта страница перевернута, и лучше о ней забыть.