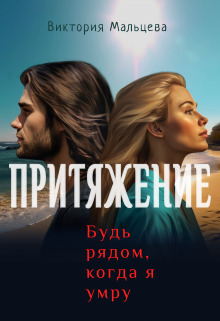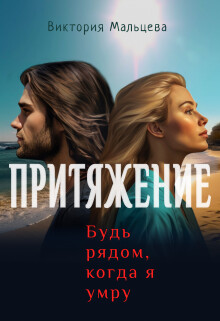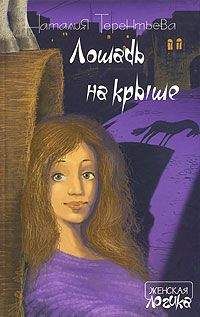три-четыре, если, даст бог, на дольше не затянется.
Ива стиснула зубы и вернулась обратно, села на стул, одиноко торчащий около кровати. Дрожь в пальцах мешала ей снять пластиковую крышечку с картонной ёмкости с бульоном, так что пришлось сделать глубокий вдох-выдох, как когда-то в студенчестве перед первыми операциями.
Окунув ложку в бульон, она протянула её Мэтту.
– Я сам… – наконец произнёс до боли знакомый, и до боли другой голос. Он был взрослым, хриплым, каким-то пугающе опытным.
С ложки на его грудь шлёпнулась жирная капля. Они оба посмотрели на место её посадки, правда мысли у каждого были совершенно разные.
– Открывай рот, пока весь суп не очутился на тебе, – резко приказала Ива.
И рот Мэтта открылся как-то сам собой.
Она на повышенной скорости вливала в него одну ложку за другой и старалась не думать о том, что раньше на его груди волос не было. Ну, по крайней мере, когда она видела эту грудь обнажённой в последний раз – а было это лет в пятнадцать на озере – волос на ней точно не было.
Ещё Иве вспомнился случай. Ей тогда было семнадцать, а Мэтту восемнадцать, они не общались и почти никогда не виделись: Мэтт, хоть и был ещё школьником, уже водил машину, а Ива, хоть и являлась студенткой на факультете биологии UBC (Университет Британской Колумбии), ездила на учёбу на автобусе. Дружить они больше не дружили, и даже случайно встречались крайне редко. Тот раз был как раз таким – крайне редким и случайным. У Мэтта была длинная чуть ли не до середины бедра футболка и широченные джинсы, штанины которых нависали над его конверсами и местами касались пыльной дорожки. Он был в наушниках и, казалось, не замечал мир вокруг себя, в том числе и Иву, а она топала следом и любовалась его затылком. Тогда Ива впервые поняла, что Мэтту очень повезло с волосами: они были благородно тёмными, но не чёрными, и лето высветляло их немного загибающиеся концы, делая их каштановыми, а на самых кончиках и вовсе – золотыми. В тот день Мэтт выглядел так, словно давно не стригся – чёлка почти полностью скрывала его глаза, а волосы на затылке так отрасли, что уже доставали до плеч.
Ива моргнула, чтобы поскорее прогнать видение, ещё торопливее набрала очередную ложку супа и невольно коснулась глазами подбородка Мэтта, который едва поспевал глотать. На нём была приличная щетина.
Его бы побрить… да и голову вымыть бы не мешало, подумала Ива, но решила, что пусть этим займётся кто-нибудь другой.
– Всё, – объявила она и продемонстрировала Мэтту пустой контейнер.
Ива встала, подошла к распределителю на стене, выдернула из него парочку салфеток, вернулась, одним движением вытерла накапавший на грудь Мэтта суп.
– Чего ты такая… худая… Эва?
Сердце Ивы замерло – так называл её только один человек в мире – мальчик Маттео Росси.
Взгляд Мэтта медленно скользил по её телу, и она почувствовала, что у неё потеют ладони. Вслед за ним она тоже опустила на свою грудь глаза, увидела бейджик с собственным именем и выдохнула – прочитал!
Да, он ведь всегда читал её имя неправильно! Просто на итальянском оно произносится как «Эва», и лет в десять он ей как-то сказал, что у неё самое красивое имя – библейское, имя «начало начал», потому что от Евы родились все люди, и как же это нелепый английский язык так умудрился исковеркать такое прекрасное имя и превратить его в Иву?
– Я Ива, – ответила она.
И ушла.
А Мэтт смотрел в след женщине, которую он почему-то знал и не знал, и спрашивал себя, почему у неё такие острые плечи? В голове у него Курт Кобейн пел о человеке, который продал мир. [Nirvana – The Man Who Sold The World].
В последующие два дня, когда приходила Ива, Мэтт спал. В первый раз она тихонечко подошла к его прикроватному столику на колёсиках, бесшумно поставила на него контейнер с жижей и разогретый суп. Затем сбегала к поильнику в коридоре и набрала полную бутылку. Бутылка у Мэтта была с носиком, вместительная и добротная, одна из тех, которые выпускаются специально для тех, кто любит эко туризм – наверное, мать принесла, а может, и Мак – Мэтту было удобно из неё пить, даже не приходилось поднимать голову.
Во второй день Мэтт снова спал, но на столике возле пустой бутылки лежала салфетка с нацарапанным словом «спасибо». Мэтту нечем было писать, поэтому он процарапал его иглой катетера.
В третий день Ива попала на перевязку. Мэтту приподняли изголовье кровати – наверное, доктор разрешил с этого дня – и ему было видно рану, которую обрабатывали медсёстры. Выглядела она жутковато, заживала явно плохо, хотя после аварии уже прошло почти две недели. Ива задумалась о внутренних ранах – их, в отличие от внешних, видно не было, и как там обстояли дела, неизвестно. Мэтт как-то ел, а ведь у него был повреждён, а потом и прооперирован желудок. Иве вдруг сделалось больно и стыдно, что она так неаккуратно пихала в него суп – возможно, с такой травмой еду нужно было принимать маленькими порциями и не торопиться. Она оставила еду на столике, принесла, как обычно воды, и когда уже выходила из палаты, неосторожно обернулась. Неосторожно, потому что Мэтт смотрел на неё, и выражение лица его было ещё более потерянным, чем когда он смотрел на собственную ужасную рану.
В четвёртый день Иву заменила Мак.
В пятый день Мэтт не спал – ему ещё сильнее подняли изголовье, так что он мог уже полусидеть и даже смотреть в окно. Глаза у него были снова красными, но не так, как раньше. Это была другая краснота – цвет усталости и отчаяния.
Первым порывом Ивы было оставить еду и уйти, но вид у Мэтта был такой страдальческий и потерянный, что она осталась. Уж кому, если не ей, знать, что далеко не всегда человеку нужен горячий суп – иногда необходимо просто с кем-то поговорить.
Ива подошла и села на стул.
– Как самочувствие? – начала она разговор.
– Я тебя чем-то обидел? – спросил Мэтт.
Вот так вопрос. Ива аж растерялась.
– Да не то что бы… а что такое?
– Ничего не могу вспомнить.
Эта фраза была произнесена с глубинной болью. Мэтт при этом неосознанно потряс головой, словно хотел растрясти в ней то, что