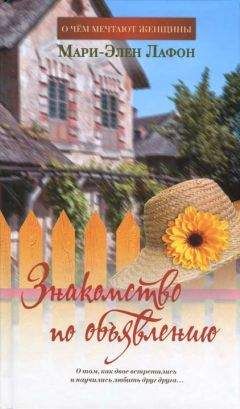В ноябре, в поезде, по пути домой, она вспоминала руки Поля, чей образ так и стоял у нее перед глазами и не покидал ее даже во сне. Широкие и живые, участвовавшие в разговоре, очень чистые, хотя и загрубевшие от работы — работы, о которой Анетта имела самое смутное представление. И вот эти руки будут прикасаться к ней — горячие, уверенные, ищущие; наверное, они слишком давно раскрывались навстречу чему-то желанному, но хватали только пустоту, они долго ждали и точно знали, чего хотят.
В январе, в Невере, после первой ночи, проведенной в крошечном и чересчур жарко натопленном номере отеля, Анетта совсем уже было отчаялась. Надо было притвориться, сделать вид, хотя бы из простой благодарности упрятать подальше свои сожаления — прекрасно понимая, что и он чувствует то же самое и тоже готов смириться с разочарованием. Все-таки это лучше, чем ничего, разве нет? На обратном пути, сидя в поезде, Анетта все покачивала головой, словно разговаривала сама с собой. Наверное, это и есть цена, которую придется уплатить, — и это смущение, и эта потная неловкость. Им ведь не по шестнадцать лет, и даже не по двадцать, они уже не дети, не юные влюбленные, не шальные от счастья молодожены, не баловни судьбы. Надо как-то устраиваться с тем, что есть. Может, они друг к другу привыкнут. Она-то точно привыкнет; привыкнет к этому спокойному и сильному мужчине, который согласен принять ее вместе с сыном, готов дать им возле себя место, и не на день-другой, а надолго, может быть, навсегда.
Только в июле, уже во Фридьере, Анетта по-настоящему узнала тело Поля — нетерпеливое тело мужчины, натренированное работой, которая не будет ждать: то дойка, то сенокос; тело мужчины, не устававшего сновать между пастбищем и коровником, его руки, торс, спину, живот и бедра; тело мужчины, привыкшего ласкать совсем другое — упрямую скотину, инструменты, мотки колючей бечевки и винты, не желающие выкручиваться из пазов разогретых механизмов. По вечерам, лежа рядом с Полем в постели, она кожей чувствовала, как из него вытекает напряжение целого дня сменяющих друг друга неотложных забот; он освобождался от него, словно скидывал изношенную одежду. Сквозь открытые окна лились одуряющие ароматы июльской ночи и неумолчное стрекотание цикад, и под эту музыку Анетта дала себя приручить. Ее уже не удивляла и не огорчала немногословность Поля; она поняла, что он говорит с ней безмолвным языком пейзажа, запахов, простора, лиц и жестов. Поразившее его самого красноречие, проявленное им в Невере, весь этот поток слов, захлестнувший их, завертевший и толкнувший друг к другу, здесь, во Фридьере, иссяк сам собой за полной ненадобностью. Как только они начали жить вместе, им стало не до разговоров; надо было учиться привыкать друг к другу, утром и вечером, касаться друг друга, узнавать друг друга и преодолевать взаимный страх. Как будто они стояли у подножия стены, которую им предстояло совместными усилиями преодолеть; ну да, они сами этого захотели: познакомились по объявлению, встретились раз и другой, приняли решение и затеяли всю эту историю. И вовлекли в нее ребенка, мальчика, Эрика. А еще — Николь и дядек, молчание которых вовсе не значило, что им все равно, о нет, они пристально следили за ними, гадая, чем все это кончится.
Потом, в тишине августовских ночей, в блаженные часы отдыха, Поль и Анетта вдруг обнаружили, что могут дарить друг другу радость, и разом освободились от всех своих старых страхов, словно сбросили с себя тяжкое бремя. Они ничего не обсуждали; да разве есть на свете слова, способные выразить чудо? Судьба преподнесла им дар, и они приняли его с благодарностью. Внешне в их поведении ничего не изменилось; даже любопытная Николь, у которой всегда была наготове пара-другая игривых шуточек, ничего не заподозрила. Что до дядек, то при всей своей бдительности к вопиющим проявлениям чужого счастья они предпочли осторожность и не позволили себе ни единого намека. Иногда Анетта ловила на себе — на обнаженных руках, затылке, груди, лодыжках — взгляд сына, но Эрик тоже не задавал ей вопросов.
Он заметно вырос, хотя еще не расстался с детством, не превратился в подростка; уже сейчас можно было сказать, что он унаследует сложение отца, будет худощавым и длинноногим, — к счастью, до сих пор ничто в его характере и поведении не предвещало, что он станет похожим на отвязных представителей клана Дидье, отличавшихся склонностью к словоизвержению; даже на трезвую голову они трещали сорокой и могли ляпнуть что угодно кому угодно, нимало не заботясь о деликатности. Эрик по большей части вообще молчал, изменяя своей привычной сдержанности только в компании с Лолой; Анетта могла лишь догадываться, о чем они там шушукаются, мальчик и собака, усевшись в обнимку у поросшей мохом садовой стены, и о чем мечтают. Поскольку обе спальни располагались в смежных комнатах, а звукоизоляция в помещении оставляла желать лучшего, она просто попросила Поля помочь ей передвинуть их кровать в другой угол.
Раз в месяц, в воскресенье, они устраивали совместную трапезу, на которую собирались все шестеро, иногда внизу, иногда наверху. Начало традиции в первое же лето положил День отцов, отмечавшийся в июле. Накануне вечером, в субботу, Поль, как раз закончивший с сенокосом, поделился этой мыслью с Анеттой. Эрик уже спал в своей обшитой деревом комнате. Анетта с Полем все еще сидели за столом; все три окна были открыты настежь, и в густой черноте ночи по небу время от времени пробегали синеватые сполохи далекой грозы. Поль был в хорошем настроении; самые тяжелые летние работы остались позади, и сена он заготовил достаточно, чтобы скотине хватило на зиму, ведь от того, как питаются коровы, зависит количество, качество и цена молока. Он замолчал, но Анетта ждала продолжения, понимая, что он хотел поделиться с ней не только соображениями о делах, даже таких важных.
Он и правда снова заговорил, только теперь голос его звучал глуше; с людьми — как со скотиной, вздохнул он, нужно терпение, их тоже приходится приручать, а главное — дать понять, что ты не желаешь им зла; все время находиться в состоянии войны невозможно, никто не выдержит, мы же первые сломаемся, рехнемся в конце концов; когда ему было тридцать, добавил он, они с дядьками, помнится, жутко рассорились, да и не только они, он, например, знает здесь, в коммуне, несколько семей, члены которых живут как кошка с собакой, по целым дням не разговаривают, то есть вообще не общаются, ни дома, ни в коровнике, ни в сыродельне, ни на гумне, у каждого свой трактор и своя машина, хорошо еще, если не свой телевизор, работают на одном поле, но — каждый сам за себя, а то еще и подерутся, брат с братом или сын с отцом, особенно если дела не ладятся, мало ли что может произойти, градом урожай побьет или корова потеряет теленка, да, бывали тут такие случаи, ему рассказывали, да он и сам видел, в одном кафе сидят два родственника и смотрят друг на друга как на пустое место. Анетта сложила вместе ладони, соединив пальцы; у нее не находилось слов, чтобы сказать Полю, как она его понимает, но она хотела, чтобы он знал: она разделяет его опасения. Еще немного помолчав, Поль заговорил о сестре. Она ведь совсем не злая, просто очень боится; это у нее вроде болезни, страх, что она станет никому не нужна; поэтому она и взяла на себя заботу о стариках целой коммуны, именно поэтому, а не из-за денег, хотя деньги, конечно, тоже не лишние. Но она привыкнет, он уверен, постепенно она привыкнет.