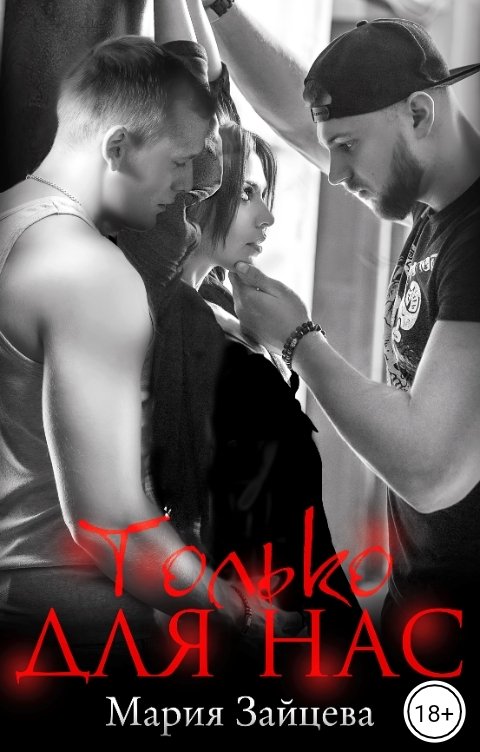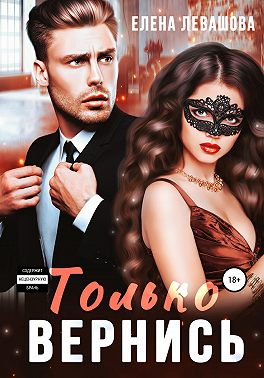сначала выдохнуть, а потом…
Потом уже разбираться с братишкой, решать окончательно вопрос между нами тремя. Потому что не дурак же, понимал, что такая херня — вообще что-то нездоровое. И неправильное.
Но той ночью так не казалось. Все было правильным. Все было логичным. И то, что она отвечала нам обоим. И то, что не отталкивала, сдалась нашим настойчивым просьбам, это тоже казалось правильным. Мы же любим ее. Ближе нее нет никого у нас.
Мы все , втроем, неделимы. Как можно быть только двоим? Это же — неполная картина, сломанный механизм!
Ну, та ночь вообще много чего в душе перевернула. Деталей не помнится уже, но вот само ощущение… Правильности, сладости невероятной, никогда, ни с кем не испытываемой… Это было. И это осталось.
Я помнил, что утром мы не разговаривали, слишком охреневшие от случившегося, в четыре руки одели притихшую и бледную Ветку, по-очереди целуя в мягкие, безвольные губы, гладя, утешая…
А потом поехали в город.
В машине, оставленной у ворот лагеря, было почему-то адски холодно, и Ветка сразу сжалась на заднем сиденье и упрямо мотнула в ответ на желание Тима сесть с ней рядом.
Помню наши с ним переглядки, безмолвный разговор… Договор. Пока оставить ее в покое. Дать время. И ей, и нам. Я уверен, что Тим тоже считал, что нам надо поговорить перед тем, как все конкретно обозначать Ветке.
Мы довезли ее до дома и минут пятнадцать сидели молча в машине, не в силах вообще хоть какие-то слова найти.
На Тима в этом плане, естественно, никакой надежды не было никогда, а потому я взял ответственность на себя, что-то ляпнул про то, что мы теперь вместе и потом обязательно поговорим…
На что Ветка, диковато блеснув глазами, только судорожно вздохнула и кивнула коротко.
А затем быстро, словно опасаясь, что остановим, выскочила из машины и побежала в свой подъезд.
Я с трудом оторвал взгляд от длинных гладких ног в коротких обрезанных шортиках, поймал задумчивый взгляд Тима, направленный туда же, сжал зубы.
Не было смысла оттягивать разговор.
Завел машину и выехал со двора, решив, что разговаривать прямо под окнами Ветки — немного отдает дебилизмом.
Как позднее выяснилось, то, что я уехал оттуда, и было дебилизмом. Полным.
Но в тот момент я был уверен, что поступаю правильно.
Разговор с другом ни к чему не привел. Хорошему, я имею в виду. Ни к чему нормальному мы не пришли, никаких выводов не сделали. Слишком упрямые и голодные, только-только попробовавшие ее, нашу Ветку, чуть-чуть, мы не желали делиться, и не желали слышать друг друга. И уступать друг другу.
А потому наш разговор ожидаемо перетек в драку. В этот раз жесткую и неконтролируемую.
Не до крови даже. До серьезных травм.
Я его убить тогда хотел, клянусь! Реально убить! И пусть потом бы всю жизнь каялся, но в тот момент… У меня что-то жуткое внутри вставало, звериное, то, что невозможно тормознуть, невозможно утихомирить.
И Тим, похоже, то же самое ощущал.
В тот момент нам с ним было глубоко насрать на то, что мы — братья, на детство вместе, на армию, на все! Мы дрались за нее, словно звери за самку. Да мы и были зверями тогда. С бушующим тестотероном, льющимся из ушей.
Как не убили друг друга, непонятно.
Я помню, что Тим, откатившись с моего пути, поставил подножку, отследил, как я с грохотом пробиваю башкой хлипкую дверь курятника, а дрались мы у него во дворе, и развернуться там особо было негде. И вообще… Как это раньше мне этот двор казался большим? В тот момент он был узким в плечах и состоящим из одних острых углов.
Или это я так вырос и не заметил?
В любом случае, дверь меня немного тормознула.
Я упал на многолетний куриный помет, закашлялся от запаха и выбитого из груди дыхания, а Тим постоял надо мной, сплюнул, а затем прорычал:
— Все, бля! К Ветке! Сама сейчас решит!
Я встал, потрогал челюсть, проверяя, не свернула ли, выплюнул кровь и согласно кивнул:
— Только не лезть. Понял? Меня выберет — не лезть, сучара!
— С чего тебя? — по-волчьи оскалился Тим, — а если меня? Уйдешь?
— Уйду, — кивнул я, не особо веря себе в тот момент. Да и не выберет она его. Меня выберет.
— Ну смотри, — злобно сверкнул глазами Тим, — смотри…
После этого мы обменялись еще парочкой ударов, но уже так, по затихающей.
Умылись, приведя битые рожи в относительный порядок, погрузились в машину, и, решив, что Ветка уже достаточно пришла в себя, чтоб припереть ее к стенке выбором, рванули к ней домой.
Вот только Ветки не было уже. Причем, не только в доме, но и в городе.
Ее мать, отсыпающаяся на грязном диване, что-то бормотала про то, что ее неблагодарная дочь свалила учиться в Москву.
А вот куда, в какой универ, по какой специальности… Она не знала.
Мы рванули на вокзал, уже понимая, что опоздали. Что, если Ветка уехала в Москву, то на утреннем поезде. А он ушел полтора часа назад.
Мы принялись высматривать маршрут поезда, чтоб перехватить на какой-либо станции…
Я помню, что у меня в груди все горело, болело очень. Помню свое ощущение, дикое совершенно: когда потерял, но еще не веришь. И думаешь, что сможешь вернуть. Что для этого надо сделать какие-то вещи, что-то предпринять конкретное, и все! И все получится!
Не получилось…
Ветка пропала из моей, нашей с Тимом жизни, на долгих пять лет.
И то, что она сейчас с нами, чудо блядское.
И я с нее теперь глаз не спущу.
В квартире у Ваньки пустовато. Сколько раз говорил этому уроду, чтоб хоть диван купил, но он только отшучивался.
Типа, вполне хватит здоровенного матраса в одной из комнат и гимнастических матов в другой.
А, да! Еще мягкие разноцветные кресла-груши в большой кухне-гостиной, перед экраном проектора, где мы периодически рубимся в танчики.
Я ставлю Ветку на ноги, с огромным сожалением размыкая ладони, словно рыбку золотую выпускаю из своих