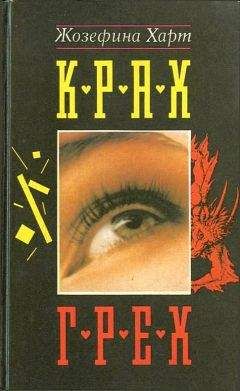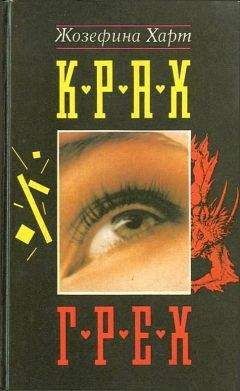После Школы искусств, где Элизабет отнюдь не блистала, она обосновалась в просторной квартире в Кенгсингтоне, которая одновременно служила ей студией, и занялась живописью. Она писала исключительно небо, что не вызывало никакого интереса, редко выставлялась и, на мой взгляд, была совершенно бездарна.
У нее было мало друзей. Она общалась по преимуществу с художниками. Однако еще со школьных лет она сохранила дружеские связи с Баатусами, известной респектабельной семьей, владевшей многими банками. Мари Баатус часто приглашала Элизабет в Париж или на Луару, в замок, принадлежавший ее семье. Элизабет с детским восторгом принимала эти приглашения. На проявленное по отношению к ней гостеприимство она отвечала тем, что время от времени зазывала Мари в Лексингтон. Мари с удовольствием приезжала, ей нравился Лексингтон, и она очень любила озеро. За его «таинственность», как она однажды выразилась.
Лексингтон действительно может казаться укромным загадочным местом. Путь к нему лежит через леса, карабкающиеся по откосам. Он вырастает внезапно, багровый, вознесшийся над холмами. Парк отлого спускается к воде.
Лексингтон — дом и озеро, где протекали многие годы нашей жизни, — был приобретен моим дедом в те времена, когда его дела пошли в гору. «Удачная шахматная партия», — объяснял он.
Дед купил скромное издательство, не приносившее большого дохода, но вполне устоявшееся. Он вывез издательство из старого огромного здания в центре Лондона, где оно помещалось, и сумел пустить в оборот так называемое недвижимое имущество. Положив в банк крупную сумму, полученную за продажу помещения, дед закрыл за три года шесть нежизнеспособных журналов, а другие преобразовал и прибавил к ним два совершенно новых издания. Он создал издательство «Альфа». Мою бабушку звали Алексой. Двум своим дочерям она дала имена Астрид и Алин. Отсюда и название издательства. «Начало всему — альфа», — шутил дед.
После смерти дедушки не знаю, от горя или от радости, бабушка решила покрасить серый каменный дом в красный цвет.
Дед и отец каждую неделю приезжали в Лексингтон из Лондона на выходные дни и проводили время за рыбалкой, охотой и картами. Лексингтон наполнялся мужскими запахами, просмаливался смехом, и все это волновало меня. Даже цвет стен менялся, и краснота становилась особенно яркой, победной. Когда мужчины уезжали, стены снова становились кровавыми, с проступавшими кое-где черными подтеками.
Меня никогда не интересовали красивые мужчины. И не потому, что я считала их пустыми, неспособными на глубокое чувство людьми. Нет. Я знала, что природа не так уж щедра и что, наделив человека неотразимой внешностью, она наверняка сэкономила на других его качествах.
Элизабет было двадцать лет, когда в один из летних дней в Лексингтоне появился тот, из-за которого участились ее визиты во Францию. Губерт Баатус.
Он с широкой улыбкой пересек лужайку и направился к моему шезлонгу. Его лицо представляло собой идеальное соотношение линий, теней и света и являлось воплощением мужской красоты.
В его внешности не было ничего оригинального. Я намеревалась соблазнить возлюбленного Элизабет. Этот план возник сразу же, как только я его увидела. Банальность подобного замысла не могла смягчить той боли, которую должна была испытать при этом Элизабет.
Я улыбнулась сквозь яркие солнечные лучи и протянула ему руку. Как джентльмен, он должен был ее поцеловать.
— Элизабет столько рассказывала мне о вас. Мне не терпелось познакомиться с вами.
— Вы слишком добры, — ответила я.
— Слишком добр? Разве можно быть слишком добрым?
В разговор вмешалась моя гостья, Элен, приехавшая на уик-энд.
— Не надо буквально понимать эту фразу, Губерт. Когда англичане говорят «вы слишком добры», они имеют в виду нечто более общее.
Губерт посмотрел на меня. Он был в некотором замешательстве.
— Мне кажется, я правильно понял то, что хотела сказать Рут. Я говорю немного топорно. Мой английский… такой неуклюжий.
— Да нет, ваш английский очарователен, — сказала я.
— О, да, очарователен. Теперь я понимаю, что подразумевают англичане под словом «очаровательный». Так сказать, все нюансы.
Он засмеялся. Элизабет улыбнулась.
— Возможно, года три или четыре Губерт проведет в Лондоне, — сказала она.
— Правда? А что вы там будете делать? — поинтересовалась я.
— Мы открываем филиал Банка в Лондоне. Перед тем как вернуться в Париж, я какое-то время буду занят этим.
— Вы думаете, вам понравится жить в Англии?
— О, да. Я уверен в этом.
И он взглянул на Элизабет.
— А прежде вы бывали в Лондоне? — не унималась я.
— Я часто бывал в Лондоне, но никогда не задерживался надолго. Я люблю Лондон. Лондонские театры — лучшие в мире. Но, кажется, я уже перешел на лесть…
— Мы любим, когда нам льстят.
Элен тоже улыбнулась ему. Ее ум был бессилен против его очарования.
Элизабет сияла. Что привлекало его в ней? Может быть, душа? Существует ли столь тонкий инструмент, который позволил бы ответить на этот вопрос? Насколько серьезно они относились друг к другу? Элизабет? Очень серьезно. Губерт?
— Рут.
Я вздрогнула и обернулась на зов матери.
— Рут, дорогая. О чем ты задумалась? Мы идем на террасу. Все готово для ленча.
Элизабет и Губерт направились к дому. Я наблюдала за ними. Он обнял ее за талию, она повернулась к нему. Ее взгляд словно освещал дорожку. Обыкновенный летний вечер.
Я плелась позади. На них падала моя тень. Они остановились и, улыбаясь, смотрели на меня. Я подошла и встала рядом с Губертом.
— Надеюсь, вы будете бывать в Лексингтоне, когда обоснуетесь в Англии.
— Губерт приедет через месяц, — сказала Элизабет.
— Вы уже присмотрели себе дом в Лондоне?
— Нет. Компания предоставит мне квартиру. В Мэйфэере. Первое время я буду жить там.
Мы подошли к дому. Ленч был сервирован на террасе. Буфет отливал почти альпийской белизной — чистота была пунктиком моей матери, — и складки скатерти струились с узкого стола на серые камни террасы. Я наблюдала за тем, как Губерт ел. Он был очень голоден, но старался это скрыть. И поэтому держался скованно. Элизабет улыбалась, слушая, как он расхваливает вино, на которое приналег, впрочем, без каких бы то ни было последствий. Думаю, он знал свою норму и сумел вовремя остановиться.
Элизабет воспринимала еду как забаву. Она ничего не пила. Она не могла бы ходить по краю пропасти. И в ее живописи не было чувства опасности, риска, напряжения всех сил. Губерт словно прочел мои мысли. Он сказал: