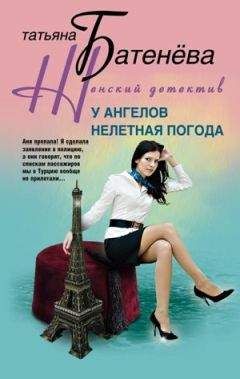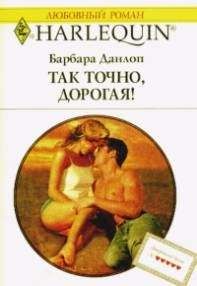понадеявшись, что голос не дрогнул. — Я дала таблетку. Крыло… повреждён внутренний край между пальцами, примерно на четверть глубины.
— Хорошо…
— Пошевелите ногой. Сможете идти? Есть опушка неподалёку, я отвезу вас на станцию.
— Виверна, — в который раз повторил Максимилиан, судорожно облизнув губы. Маргарета кое-как обтёрла ему лицо и заклеила порез, но он всё ещё не открывал глаз. Должно быть, его мутило. — Её нельзя… оставлять…
— Крыло нужно шить, — строго сказала Маргарета. — Мне нечем. Я отвезу вас на станцию и вернусь к ней.
— Обе… щай.
Она вздохнула.
— Обещаю.
Шёл он плохо: не из-за ноги, а из-за головы. Похоже, здесь было по меньшей мере сотрясение; хуже того, когда он пытался открыть глаза, в них плескалась тёмная муть, густая и грязная, как в глазах раненой виверны.
— Отпустите связь, — сердилась Маргарета. — Вы сами…
Он стискивал зубы и молчал.
— Да отпусти же!
— Нет.
— Если ты не…
— Нет.
Поднимая его в седло, она материлась, как отставной прапорщик, вызванный с заслуженной пенсии караулить склад. Старый Максимилиан в ответ назвал бы её «миледи». Этот только морщился и кривил губы каждый раз, когда их встряхивало. Виверн летел кое-как и грозился издохнуть по дороге, а в сухую пыль двора грохнул так, что клацнули зубы.
Она помогла раненому умыться, стряхнула с койки свои вещи и постелила свежее бельё, ещё пахнущее казённым щёлоком.
— Виверна, — напомнил он, так и не открывая глаз.
Потом его вывернуло: Маргарета едва успела подставить ведро. Его тошнило долго и муторно, он судорожно глотал воздух, а потом снова сворачивался над ведром, пока спазмы не стали совсем бесплодными. Первая кружка воды почти мгновенно отправилась туда же, в ведро, вторая — согласилась задержаться.
— Вам самому нужна помощь, — хмурилась Маргарета, прикидывая, что из скупой станционной аптечки (бинты, шовный материал, водка, молитва) могло бы здесь пригодиться.
— Виверна. Её нельзя…
Он не договорил: тут же сложился над ведром.
— Помоги виверне, — бормотал он, сворачиваясь на койке. На лбу испарина. — Это приказ старшего по…
Маргарете давно было плевать на звания, на приказы, на угрозы и на трибунал. Это был пустой набор звуков, как если бы радист уснул над передатчиком, и сигнал отбили судороги в его ладони. Впрочем, Маргарете давно было плевать на всё.
Она плавала в сером мареве, из которого не было никакого выхода. Небо заволокло тучами — ни просвета, ни даже светлого круга там, где можно было бы угадать тень солнца. Погода нелётная, воздух тяжёл, дышать нечем, и она только скользит по безликой земле, туда-сюда, туда-сюда…
— Отпустите связь, — сухо сказала Маргарета. — И я полечу.
Он кивнул одними ресницами и тяжело откинулся на подушку.
В двадцать минут пятого, закончив с журналами, Маргарета запирала сейф, заваривала чай и замирала перед окном. Там она смотрела, как кружатся облака над лесом, а тяжёлые драконы в верхних эшелонах идут по своим коридорам. Потом она выпивала чай всё там же, у окна, потом брала книгу…
Внутренние часы Маргареты были настроены точно: уговаривая виверна поработать ещё немного и забираясь в седло, она твёрдо знала — восемь с небольшим. Другая, вчерашняя Маргарета как раз снижается и берёт пробу на влажность для вечерней сводки. И позавчерашняя, и позапозавчерашняя тоже: все они, прошлые Маргареты, наложенные друг на друга, слились в один силуэт, катящийся по заученному маршруту.
Я ещё успею догнать, — вяло крутилось в голове. — Двадцать минут…
Она подняла зверя, так и не взяв приборов.
Раненая виверна сложила левое — целое — крыло, почти обмотавшись им, и попробовала зависнуть на ветках и уснуть, но только переломала деревья: вокруг были одни молоденькие осинки, несколько кривых ёлок и сухой клён.
— Всё будет хорошо, — сказала Маргарета, успокаивающе гладя её по мягкому носу. — Сейчас немного больно, пока я шью, но это совсем недолго, а потом я дам тебе капусты. Ты любишь капусту?
Капуста — это, конечно, не арбуз; от арбуза не отказалась бы ни одна здравомыслящая виверна. Но эта и здесь тоже оживилась: повела сплющенным носом, хрипло курлыкнула.
Глаза её были открыты и оказались голубыми. Глубокая, странная чернота из них ушла, осталась только лёгкая муть, вполне обычная для дальнозорких зверей, неожиданно оказавшихся в замкнутом пространстве.
Но не могло ведь ей показаться? Или могло?
Долгое мгновение Маргарета думала, что тьма могла застилать её собственные глаза, но мысль эта оказалась вялой, неповоротливой, и быстро утонула в привычной медленной серости. Виверна легко вошла в связь и щедро поделилась болью в раненом крыле; через эту боль хорошо было сипло, с присвистом дышать. Руки нашли привычный ритм, ладони прогладили кожу крыла, совмещая края разрыва, плеснул спирт — и свёрнутая полукольцом игла впервые прошила изодранную шкуру.
Стежок. Стежок. Ещё один. Кое-где пришлось срезать лезвием ошмётки кожи, которые никак нельзя было уже спасти, — не при таком лечении, по крайней мере. А кости целы, сустав подвижен, и когти крыла скребут воздух, будто сжимая кулачок.
Виверна безвозвратно потеряла неровный тупоугольный треугольник кожи между третьим и четвёртым пальцем — не самая страшная травма, особенно после такого падения. Конечно, тех красивых разворотов на месте, которыми они баловались в воздухе, больше не будет… но кто из нас, в конце концов, возвращается прежним?
Край Маргарета прижгла, а на отдельные порезы щедро, жирным толстым слоем нанесла мазь. А потом оторвала от капусты верхние, вялые и грязные, листья и положила вилок пациентке под морду.
Та ткнулась носом, куснула раз, ещё раз. Виверна могла бы расправиться с капустой в несколько укусов, но ей нравилось смаковать и пережёвывать медленно, с хитрой довольной мордой.
Рубить насест пришлось почти в полной темноте, и Маргарета долго плутала, выбирая подходящий ствол для уключины и дерево достаточно крепкое, чтобы не сломиться под звериным телом. Виверна вредничала и ластилась к рукам, но потом согласилась всё-таки влезть наверх и, сомкнув кольца цепких задних лап, повиснуть под стволом вниз головой, завернуться в крылья и задремать.
Заполночь, вздохнули внутренние часы Маргареты. Все другие, прошлые Маргареты уже лежали в койке, закинув руки за голову: кто-то из них спал, а кто-то — упрямо таращился в потолок. Но сегодня их место