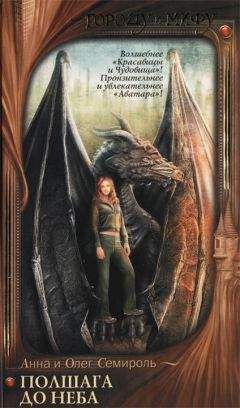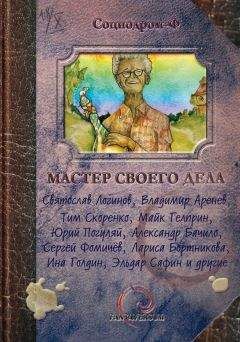— Она звонила мне несколько раз, — говорила Анна, — весной и потом летом. Позвонит, спросит, как дела, и молчит. Или начинает рассказывать что-нибудь про работу. Рассказывает, а потом неожиданно прервется и не закончит. Я спрашиваю ее: а что дальше-то? А она отмахивается, что, мол, ерунда, и ничего интересного на самом деле. Мне кажется, что все это было для нее ужасно скучным. Не понимаю, зачем она звонила…
Я знала зачем. Чтобы не умирать от одиночества. В отличие от меня Лиза совершенно не выносила пустую квартиру. Свой последний доматвеевский роман она завела, наверное, только для того, чтобы не проводить каждую ночь одной. Скорее всего с отцом ребенка они встретились несколько раз, а потом ее начал раздражать его запах, или его манера сидеть за столом, подтянув колени к подбородку, или привычка курить перед завтраком. Лиза расставалась с мужчинами обычно из-за пустяков, точнее, из-за того, что в глазах других выглядело пустяками. Хотя я знала, что на самом деле во всех случаях причина была одна и та же: моя подруга не могла долго быть с человеком, которого не любит.
— А что ей приснилось? — спросила я.
— Она не сказала, — отозвалась Анна, — и ты не скажешь. Верно?
Я кивнула. Рассказывать этот сон было выше моих сил.
— Но после ночи здесь она сказала, что паше поколение лишено жизненной силы, — продолжила Анна, — мы все тянемся к небытию, как к надежде на что-то лучшее.
Пару минут мы посидели молча. Я смотрела на небо, Анна — на мой затылок.
— Пойдешь к заутрене? — спросила она.
— Нет, я пойду к электричке, — ответила я, глянув на часы.
Встала, подняла лежащее на полу одеяло, обнаружила под ним свои брюки и начала одеваться.
— Я провожу тебя, — сказала Анна голосом усталой жрицы.
Я отказалась.
От монастыря до железнодорожной станции двадцать минут пешком. Да еще десять стоять на пустом перроне, около деревянного теремочно-яркого вокзала и ждать первую электричку.
Итого — полчаса было в запасе, прежде чем люди увидят мое лицо. Полчаса на то, чтобы прийти в себя и постараться замаскировать себя равнодушной миной.
Полчаса — это ничтожно мало.
День приползал под покровом густого утреннего тумана. Где-то за ним уже вставало солнце, но я была рада, что не вижу его. Возмутительная красота загородного мира, влажная пружинистая трава под ногами, трепет свежих березовых листьев — все это было для меня танталовыми муками. Видимый и осязаемый мир не был моим. Он отторгал меня, как непрошеную свидетельницу того, что предназначено другим.
Я чувствовала себя маленькой и потерянной в огромном туманном утре. Там, в будущем, которое наступало через полчаса, жили люди. А здесь была только я.
Что-то темное и беспощадное тянулось за мной из прошлого. Может, Анна права и это грех наших матерей, месть судьбы за неродившихся братишек и сестренок. Может, отозвалось и эхо храмов, рухнувших под топорами наших дедов, может, и еще что-то, чего мы никогда не узнаем.
Матвей не там искал причины нашей смерти. Он смотрел на поверхность, а корни уходили глубоко, в темную, кровавую почву нашей истории. Поколение обреченных — результат усилий тех, кто губил эту жизнь жадно, со всей страстью, на которую был способен. Стремление к саморазрушению сильно у тех, кому осталось нечего разрушать, кроме себя.
Теперь я понимала, почему Лиза покончила с собой. Не потому, что не смогла найти с Матвеем того чувства, которого ей не хватало в отношениях с другими мужчинами. Наоборот, я уверена, что она полюбила.
Но Лиза не смогла оторваться от прошлого.
Не смогла простить. Ни себя, ни своих родителей.
Я не была уверена, что мой монастырский опыт стоит рассказывать Матвею. Даже, скорее, склонялась к тому, что об этом лучше умолчать.
Но я редко следую здравым советам самой себя.
Рассказала.
Позвонила ему в тот же вечер, как вернулась из N-ска.
Матвей выслушал меня, не перебивая, и не задал ни единого вопроса. Я рассказала все, исключая свою версию Лизиной гибели. Матвей слушал так тихо, что в трубке даже не чувствовалось его дыхание, и у меня мелькнула мысль: а там ли он еще?
Он был там и дал о себе знать сразу, как я закончила.
— Но ты же точно не знаешь, что снилось Лизе, — сказал Матвей.
— По-моему, это не принципиально, — возразила я, — картинки могут быть разными, а полученное знание — одним и тем же.
— Хорошо, — согласился он, — но что ты хочешь этим сказать? Ты полагаешь, что если причина в нашем прошлом и ответственность за это лежит на наших родителях, то мы ничего не можем сделать?
— А тебе в голову приходят какие-то варианты? — раздраженно спросила я. — Да, Анна тоже считает, что, рожая своих детей, мы отчасти нивелируем вину родителей. Но я в этом отнюдь не уверена.
— Почему? Это вполне правдоподобно, — сказал Матвей, — если вспомнить кармический закон, то…
— Иди ты подальше со своим кармическим законом! — завелась я. — Что ты предлагаешь делать? Собрать всех наших одноклассников и сделать им под гипнозом внушение, чтобы они как можно скорее обзаводились детьми? Дабы спасти свои души!
— Тоже мысль, — спокойно сказал он.
— Тогда мысли шире, — я злилась все больше, — организуй кампанию за повышение рождаемости. Или присоединись к движению против абортов! Тебя не может беспокоить судьба только наших одноклассников. Ты же мечтаешь стать героем поколения!
— Не понимаю, что тебя так раздражает, — похоже, я его задела, — понятно, что я не могу заставить всех своих ровесников поголовно обзаводиться потомством. Но если число родителей в нашем поколении увеличится, не думаю, что это отрицательный результат. Почему ты против?
— Послушай, — сказала я сквозь зубы, — ребенок в семье должен появляться по одной-единственной причине. Потому что родители хотят и ждут этого ребенка! Потому что они мечтают его родить, воспитывать, заботиться о нем, тратить на него деньги. Все остальное — страх перед одинокой старостью, намерение искупить свою вину или другие корыстные мыслишки — это не повод, чтобы приводить в мир нового человека. А душеспасительные проповеди и рассуждения в духе «Раз так получилось, то надо рожать» — все это гораздо быстрее приведет к вырождению человечества, чем гибель одного-двух поколений.
— Я знал, что ты эгоистична, — сказал Матвей после паузы, — но не думал, что настолько. Не понимаю, как вы могли так долго дружить с Лизой. Вы абсолютно не похожи. Она никогда так не рассуждала…
Хорошо, что в этот момент он не видел выражения моего лица.
Я бросила трубку, брякнулась плашмя на диван и около часа пролежала почти без движения. Подняться меня заставил только жуткий приступ жажды, от которой, к сожалению, было не так легко отделаться, как от всех прочих желаний.
25
Иногда, и очень часто, в мире что-то происходит вне зависимости от нас.
Сегодняшняя суббота выдалась еще более странной, чем прошлая.
Хотя, казалось, куда уж дальше? Когда толстокожим агностикам начинают сниться мистические сны, а убежденные циники вступают в борьбу с абортами — это явный признак того, что мир катится… куда дальше, чем под колеса Берлиозова трамвая.
Уф, понесло меня. Простите. Соскучилась по вольному словоплетению.
Всю неделю мой ноутбук пылился без дела: не могла заставить себя написать ни строчки. И хотя к своим заметкам я пристрастилась уже как к наркотикам, мою руку на пути к клавиатуре каждый раз останавливала одна и та же мысль. О чем? О чем мне писать сегодня? Было ощущение, что моя история подошла к концу: поставлена последняя точка, и никакого продолжения быть не может.
Если мне придется вспоминать прошедшую неделю, то в памяти промелькнет только череда одинаковых картинок — офис, ищущий и тускнеющий взгляд Ильи, молчащее сероглазое существо на соседнем сиденье маршрутки. За всю неделю мы с Настей не перемолвились и десятком стоящих слов. Внешне все было по-прежнему. Илья провожал нас до остановки и на прощание заглядывал мне в глаза, наивный мальчик. Кажется, он покупал нам мороженое и первую клубнику: ее продают на остановках вечные городские бабушки в пестрых косынках. Газетный кулек, душистые ягоды, оставляющие на руках кровяные разводы — когда это было? Вчера или, может, в среду?