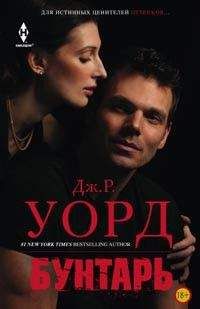— Может быть — для тебя, но я так не думаю, — сказала она тоном, не допускающим возражений.
Том оценил решительное выражение ее лица и замолчал. Хотя Тинкер и жаловалась на недостаток индивидуальности, характер у нее явно был не слабый. Она обладала очень яркой индивидуальностью, но сама не ведала об этом и, если сказать ей, наверняка не поверит. Как она рассказала свою историю, без глянца, без жалости к себе, объективно, не скрывая своих страхов и своих ран, но и не упиваясь ими, не прося ни совета, ни помощи. На такое способен только сильный человек — даже если она и абсолютно не права по отношению к себе. Индивидуальность у нее есть — даже если ей совсем недоступен флирт. Да и зачем ей? Такой красивой девушке наверняка флиртовать не приходилось.
— Я ни с кем не говорила об этом с тех пор, как попала в Нью-Йорк, — с некоторым удивлением сказала Тинкер, — только немножко с Фрэнки. То есть я никогда в жизни никому так много о себе не рассказывала. Теперь ты обо мне все знаешь… наверное, ты думаешь, что я совершенно зациклена на себе и в голове у меня только идиотские дефиле на подиуме, которые никак не могут быть интересны человеку с мало-мальскими мозгами…
— Я сам тебя на это раскрутил, ты не заметила? Как же ты можешь говорить, что мне неинтересно?
— Я думала, ты изображаешь такого хорошего слушателя, чтобы усыпить мои подозрения, — сказала Тинкер, устремляя на него лучезарный взгляд; в уголке ее рта мелькнула еле различимая тень улыбки.
— Какие подозрения? — с запинкой спросил он. «О господи, как я ошибся, — она умеет флиртовать», — подумал Том, вдруг ощутив укол острой ревности ко всем несчастным козлам, с которыми она флиртовала — должно быть, их было сотни, что бы она там ни говорила про чтение книжек и библиотеку. Может, она и таблицы умножения не знает. Может, она просто выдумала эту историю, может, она патологическая лгунья, о господи, я схожу с ума, зачем ей нужно мне лгать, ведь все, что она говорила, было совершенно упоительно, особенно эти белые гольфы с оборками…
— Подозрения, — объяснила Тинкер, — которые могли у меня появиться, если бы ты пригласил меня в свою мастерскую посмотреть твои работы. Ведь все художники так делают? Я читала об этом.
— Читала об этом? — промямлил он, чувствуя себя круглым дураком.
— Я раньше не встречала настоящих художников. — Теперь Тинкер лучезарно улыбалась. Наклонив голову, она взяла его руку и стала внимательно изучать. — Краски под ногтями нет, — наконец объявила она словно бы с сожалением.
— Посчитай мой пульс, — сказал он, кладя ее пальцы на запястье.
— А какой должен быть нормальный? — серьезно спросила Тинкер. — Меня не учили оказывать первую помощь, я так и не вступила в скауты — не было времени.
— И ты совершенно ни на что не годна, да? — Он старался, чтобы голос не выдавал его чувств, хотя ему не хватало воздуха, а пульс под ее пальцами прыгал как сумасшедший.
— Именно, — с готовностью согласилась Тинкер. — Именно это я и пыталась тебе объяснить. В этом мире, дьявол его побери, мне нет места — даже на подиуме.
— А что, если я найду тебе применение? Поможет? — Он недоверчиво вслушивался в собственные слова — неужели он ее соблазняет? Но это не в его стиле, флиртовали всегда с ним — всю жизнь так было.
— Этот вопрос мог бы опять возбудить у меня подозрения, будь я подозрительна; но я не подозрительна. Я доверчивая, простодушная, наивная, беспомощная деревенская девчонка из Теннесси, — весело сказала Тинкер, чувствуя, что непонятно почему в душе что-то меняется, тьма рассеивается, мрачные тени исчезают.
— А, черт, ты выиграла — отпусти пульс!
— Выиграла что?
— Меня — если хочешь.
— Ну, я еще не знаю, откуда же мне знать? — рассудительно сказала она.
— Так пойдем смотреть мои картины?
— Когда?
— Сейчас.
— А почему бы и не сейчас, — сказала Тинкер, изо всех сил стараясь сдержать рвущуюся наружу радость.
* * *
— Только обещай мне одну вещь, — сказал Том, медля повернуть ключ в дверях своей мастерской на Левом берегу, на верхнем этаже старинного здания на ничем не примечательной улочке, расположенной в Шестом районе Парижа. — Обещай, что ты не будешь говорить о моих картинах. Ничего. Как я понимаю, ты еще не научилась делать вежливые и осторожные замечания, какие принято отпускать в мастерских художников.
— А невежливые можно?
— Об этом я не подумал. Нет, — резко добавил он, — обычно считается, что нужно хвалить картины вне зависимости от того, что о них действительно думаешь.
— Открывай дверь. Я совершенно не разбираюсь в искусстве, я и в себе-то не могу разобраться, так что моего суда тебе нечего бояться.
Тиккер удивилась, как вдруг Том стал уязвим. То он хотел, чтобы она увидела его картины, теперь он не хочет знать, нравятся ли они ей. Неужели все художники превращаются в такую вот стыдливую мимозу, когда доходит до того, что надо показать свои картины? И все вообще люди, даже те, что кажутся столь уверенными в себе, показывая свою работу другим — пусть это один-единственный человек, — становятся такими уязвимыми? Эта мысль вертелась у нее в голове, пока Том нашаривал выключатель. Наконец свет вспыхнул, осветив комнату с неровно оштукатуренными светлыми стенами и разрисованным цветными пятнами полом; высокая пирамида из сетки белого металла поддерживала стеклянный потолок.
Комната была большая; ее пространство разгораживали старинные ширмы в стиле арт-деко.
Самым крупным объектом в ней было огромное овальное старинное ложе, задрапированное куском белой ткани и украшенное старинными же подушками; вокруг него располагались три обогревателя. Ложе стояло на сильно потрепанном персидском ковре, а несколько свечей на полу явно были призваны заменить камин.
— Не слишком уютно, — сказала Тинкер, вздрагивая от обилия белого цвета. «Где-то здесь, за одной из этих ширм, должен быть мольберт, — подумала она, — а еще — кухня и какая-нибудь ванная, и даже клозет — или художники обходятся без клозета?»
— Эта мастерская — само совершенство, — возразил он. — Совершенство. Я мечтал о такой всю мою сознательную жизнь и не думал даже, что мне посчастливится найти что-то подобное. Она предоставляет максимум возможного света в темном городе… Такая мастерская — просто невероятная удача. Наверное, ты удивляешься, почему Париж? Почему я последовал этому давно вышедшему из моды, устарелому клише — податься в Париж и стать художником, вместо того чтобы сделать это в Нью-Йорке, где происходят главные события искусства? Но в Нью-Йорке я сделал свою карьеру в рекламе, там мои друзья из мира рекламы, там я достиг успеха в рекламе. Мне нужно было оттуда уехать, начать с чистого листа, оказаться в другом мире. Почему Париж? По разным причинам — глубинным, не поверхностным. Наверное, я что-то читал, а может быть, и все, что я читал, звало осуществить давнюю мечту во всей полноте — не просто съездить посмотреть, но вжиться в эту жизнь всем моим опытом, воплотить эту банальную старомодную романтическую фантазию насчет художника на парижском чердаке — примерно так, и если у меня ничего не получится, я по крайней мере буду знать, что сделал все, что можно, — с полным погружением, а не наполовину…