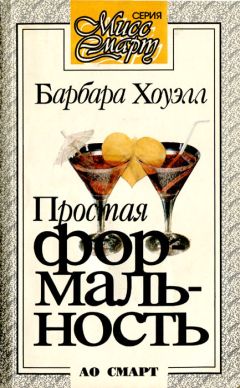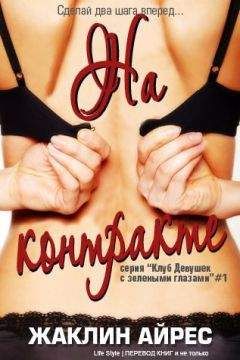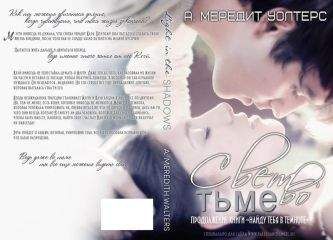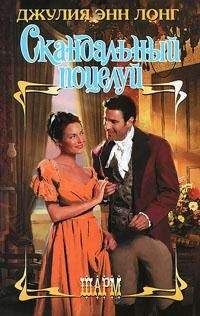Ей хотелось вместе с ним снова оказаться в дюнах — бегать, прыгать от радости в промокших, запачканных песком куртках, как это делают первооткрыватели, достигшие заветной цели своего путешествия, края земли, того места, где, по представлениям древних, непременно сорвешься в пропасть и упадешь прямо в объятия Сатаны, — и там обнаружишь, что даже здесь, на краю бездны, твоим глазам по-прежнему открывается одна только неизвестность.
И после всех этих мыслей очнуться в грязной комнате мотеля, кишащего мерзкими насекомыми (небось и в матрас забрались) — было от чего прийти в смятение. Она застонала, вздрогнула, заворочалась в постели рядом с Элом. Она, большая грешница, чувствовала себя как никогда беспомощной.
Не сердись, не грусти, нет причин для тоски — Санта Клаус к нам в город идет. Иде-е-е-ет!
Музыка гремела то ли в соседней квартире, то ли в другой комнате, то ли у нее в голове.
Воспоминания об океане и о том, как Эл терпел ее вопли и крики (правда, если по справедливости, он потом вознаградил себя в постели), вызывали у нее приступ чудовищной тоски, ностальгии по чему-то ушедшему безвозвратно.
Закрыв глаза, она приказала себе прекратить бессмысленное самокопание, иначе никакие транквилизаторы не помогут, а она очень на них рассчитывала.
В два часа она все еще спала. Ее разбудил стук в дверь. Потом послышался громкий встревоженный голос ее матери, в котором нетрудно было уловить упрек.
— Клэй приготовил тебе такие прекрасные подарки. Он со мной делился. Слышишь? Вставай быстро! — Она говорила так, словно ее взрослая дочь опять превратилась в девочку.
Синтия отделалась от нее так же, как в детстве, воспользовавшись простейшим приемом — не отвечать. В последний раз она запиралась в своей комнате, когда ей было лет десять, но сейчас, в свои тридцать восемь, лежа в постели, оцепенев от злости и наглотавшись транквилизаторов, она решила прибегнуть к старому испытанному способу. К тому же теперь она могла продержаться подольше, возраст тоже имеет свои преимущества: к спальне примыкала ванная с туалетом. Она налила себе виски и, потягивая его, целый час просидела в горячей воде, по плечи погрузившись в душистую пену.
В четыре часа Клэй сделал попытку заставить ее выйти.
— Звонила Нэнси и сказала, что не придет, так что все в порядке. Когда ты появишься?
— Завтра. Уходи.
— Синтия, не дури. Открой мне. — Она промолчала. — Все тебя ждут. Послушай, я уже поставил индейку в духовку. Сам ее начинял.
— Ну сам и ешь. Я до завтра не выйду.
— Для чего ты все это устроила? Хоть бы девочек пожалела! На них лица нет.
— Завтра они об этом забудут. — Лица на них нет не столько от огорчения, сколько от неловкости, подумала она. Все равно неприятно. Очень жаль. Но они тоже не раз ставили ее в неловкое положение. Она же это пережила. И они переживут.
— Ну и денек ты им устроила! Да и не только им — всем!
Она промолчала.
— Неужели даже есть не хочешь? — Он начинал злиться. После короткой паузы добавил: — Я выломаю дверь.
Она по-прежнему не подавала голоса. Ее мать всегда говорила, что взломает дверь и ни разу этого не сделала, и Клэй не сделает.
Тогда он попробовал зайти с другого конца:
— Не хочешь посмотреть свои подарки? А я-то старался, выбирал!
— Не хочу, — ответила она наконец.
— Зато мне интересно, что ты мне приготовила.
— Твой подарок в шкафу в кладовке. Пойди, достань и распакуй.
Она купила ему у Марка Кросса дорогой кожаный набор для деловых бумаг. Одна только коробка для входящих документов стоила двести двадцать четыре доллара девяносто пять центов.
— Какая муха тебя укусила?
— Не знаю. Уходи.
Рождественскую ночь она провела в спальне. На рассвете, безумно голодная, она открыла дверь и на цыпочках прошла через холл в кухню, как в детстве.
Пол был начищен, кухонные столы и раковины отдраены до блеска, вымытая посуда расставлена по местам. Чувствовалась рука опытной хозяйки — мать потрудилась на славу.
Даже не присев, стоя, она съела целую индюшачью ножку, клюквенный соус и всю оставшуюся начинку. Потом вернулась в спальню, снова легла в постель и открыла дверь только тогда, когда Клэй пришел переодеться перед уходом на работу.
Было видно, что он изо всех сил старается держать себя в руках. Двигался как на протезах, натянуто поблагодарил ее за набор. Выложил перед ней четыре роскошно упакованные подарочные коробки.
Она посмотрела на свертки, потом на глубокие складки, пролегшие вдоль щек Клэя, на его недоумевающие глаза. После виски и транквилизаторов все воспринималось болезненно остро.
— Извини меня за вчерашнее, — поспешно сказала она и, повернувшись к нему спиной, стала застилать постель.
— Разве ты не посмотришь подарки? — Он говорил с ней, как взрослые говорят с дефективным ребенком.
— Потом. Девочки в порядке?
— Нет.
— Я объяснюсь с ними, когда они встанут. Где мама?
— Она уехала вчера вечером.
Синтия оставила его переодеваться и ушла на кухню сварить себе кофе. Останься она с ним, пришлось бы объяснять, почему она так себя вела, но у нее не было вразумительного объяснения. Ей нечего было сказать в свое оправдание, так что на понимание рассчитывать не приходилось.
Он ушел из дома не попрощавшись.
Собравшись с духом, она вернулась в спальню, где лежали его подарки. От одного взгляда на коробки ей стало стыдно. Мучительно стыдно, хотя она и понимала, что именно этого Клэй и добивался.
Она не чувствовала никакой гордости и никакого удовлетворения от того, что сделала. И спустя многие месяцы, когда она вспоминала этот день, она по-прежнему была не в состоянии понять, откуда взялся этот сгусток ярости, этот паралич, сковавший все ее нормальные чувства и заставивший ее запереться в своей комнате. Как было бы удобно сказать, что все произошло из-за Нэнси и приписать все ревности. Но то, что она тогда испытывала, имело совсем иное происхождение, это было куда более примитивное чувство, чем сложная комбинация эмоций, называемая ревностью.
Она медленно разворачивала подарки, разрезая ножницами ленточки и откладывая их в сторону, чтобы потом аккуратно свернуть и спрятать. В коробочках из магазина Картье был массивный золотой браслет и двойная нитка крупного жемчуга с золотой застежкой, украшенной рубинами. В коробке побольше лежала сумочка из мягкой тем-но-серой кожи. И наконец в последней, самой большой коробке лежало норковое манто. Она надела его поверх ночной сорочки. Манто сидело превосходно. Он действительно расстарался. И мех был превосходного качества, шелковистый, блестящий. Она с почтением погладила его. Норковое манто! — мечта домохозяек. Что ж, пусть так. А кто она сама, если не домохозяйка?