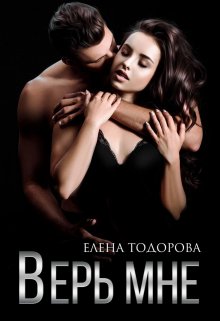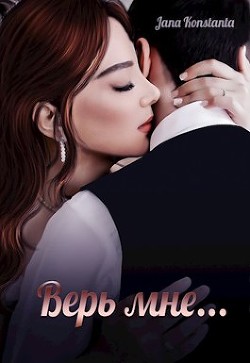кровь, несусь к ней, преодолевая за мгновение тысячи километров пропасти.
Взгляд. Вдох. Эмоциональное заражение. Пандемия.
– Рассказывать, Сонь?! – выдыхаю, поглощенный созданным ею адом. – Слушай! – толкаю и срываюсь в эту черноту еще ниже. – Трахал ее во все места. Во всех позах. Сосала, конечно. Я не лизал. Смотрел на нее и смотрю, когда того требует ситуация. В нашей кровати ее не было. Да и в самой квартире тоже.
Этого достаточно, чтобы разодранная рана Сони наполнилась болью и, взорвавшись, заставила ее захлебнуться. Она будто до этого в отрицании жила. Подсознательно отвергала любые факты. До последнего не верила в то, что я мог быть с другой.
Только сейчас принимает эту информацию полновесно. Издает какой-то дикий, яростный и одновременно болезненный крик. Дергаясь, расшатывает под собой табуретку и толкает меня в грудь. А потом… С очередным одуряюще пронзительным воплем лупит меня по роже.
Я отшатываюсь. Прикрываю глаза. И задерживаю дыхание.
В ушах звенит. В груди гремит. В глазах искрит. Глотку сжимает спазм.
– Наконец-то, – роняю практически безжизненно.
И отворачиваюсь, чтобы иметь возможность сделать вдох.
Но Соня практически мгновенно бросается за мной следом. Дернув за руку, заставляет обернуться.
Глаза в глаза. Столкновение сумасшедших эмоций.
– Как это началось? Где? – продолжает в истерике выкрикивать.
Я ее такой никогда не видел. Даже тогда, в феврале, когда расставались, Соня держалась с охренительным достоинством. Сейчас же ее колошматит вовсю. Она издает непонятные рваные и стонущие звуки. Глубокие карие глаза сверкают безумием.
Подспудно чувствуя, что все шатко и в какой-то момент обязано рвануть, чтобы наступило облегчение, не представлял подобного накала.
– Этого тебе знать не надо, – хриплю с трудом.
Соня рычит и бьет меня в грудь кулаками.
– Говори! Я должна знать! Должна!
– Думаешь, я помню?! – реву агрессивно в надежде, что это ее остановит. Но она, напротив, сильнее расходится. Не прекращая плакать, бьется и царапается. Это могло бы ощущаться больно, если бы не душевная мясорубка, которая значительно мощнее. – Да, мать твою… В машине! Наверное, в машине… Я, блядь, правда, не помню!
– В этой машине?! В этой?! Где мы с тобой…
Договорить ей не даю. Зажимаю ладонью рот. И, казалось бы, у меня силовое преимущество, но этот маленький разъяренный зверек вьется так, что выкручивает мне руки.
– Как именно? Ты захотел? Или она? В какой позе?
– Я не помню, блядь!!!
Меня накрывает. Капитально нахлобучивает. Вся восприимчивая нервная структура под кожу подползает. Рвет бешеной вибрацией мне кожу. А Соня умудряется на ней играть, как на струнах, целый, мать вашу, рок-концерт.
– Вспоминай!! Вспоминай!
Я бы никогда никому не позволил такого давления прежде. Никому. Даже Богдановой. Но после февраля все мои принципы с Соней на хрен стерлись.
– Раком! Мать твою, я ебал ее раком! Втопил до упора и чуть не высадил ее головой стекло пассажирской двери. И да, я сам был инициатором. Я! Хотел ее трахнуть и уничтожить то, что оставила ты. Отрезать все пути к тебе. Забыть тебя. Хотя бы на один проклятый миг забыть! Перестать тебя видеть и чувствовать! Оборвать, на хуй, эту связь! Но у меня едва стоял, блядь. Тверже, сука, вытаскивают. И кончить я в первый раз так и не смог. Позже научился. Так тебе, мать твою, достаточно подробностей?!
Соня снова заряжает мне по морде. Не раз, и не два, превращая мою щеку за серию ударов в один сплошной синяк. Я бы сказал, что мне похер на это… Но на самом деле я, словно шизанутый мазохист, чувствую облегчение, которого, мать вашу, так долго ждал.
– Нет, недостаточно, Саш! Давай еще! Что ты чувствовал?
– Мы расстались, Сонь! Мне было похрен, кто рядом. Я пытался жить дальше! Знал, что тебя больше не будет, и все. На этом точка. Я не обязан оправдываться. Ты охренела, если думаешь, что имеешь право выжимать из меня всю эту хуйню! Ты охренела, Сонь!!! Но я рассказываю, потому как я, блядь, понимаю, что ты чувствуешь!
– Мне плевать… Плевать, что ты думаешь и чувствуешь… – бормочет она, кусая в этом бредовом кумаре свои губы. Мотает головой, продолжая рыдать и избивать меня. – Что ты ощущал, когда все эти месяцы трахал ее???
– Что ощущал? В том-то и дело, что я, блядь, ни хрена не ощущал! У меня, сука, все нервные окончания эмигрировали в неведомые дали вместе с тобой! Я, блядь, сдох после твоего отъезда, понимаешь? Я, мать твою, жил как конченый зомби. Я в прямом смысле не чувствовал ни души, ни тела. Я окаменел, онемел, очерствел… Перестал воспринимать этот чертов мир!
Замолкаю, когда Соня приникает к моей щеке своей. Вжимаясь, со всхлипываниями трется влажным лицом. И тогда я понимаю, что моя кожа пылает огнем. Но и ниже шеи все раскаляется до таких температур, что будь я все-таки из стали, стал бы красным.
– Целовал?! – выпаливает почти бездыханно, будто умирая.
Я и сам… Умер. Воскрес. Умер. Воскрес. Умер. Воскрес.
Походу я стал асом в этом деле. Справляюсь за секунды.
– Целовать?! Кого я, мать твою, мог целовать, если мой ебаный мозг, несмотря на полную деградацию, знал и помнил лишь твой вкус?!
Соня отстраняется, чтобы посмотреть мне лицо. Но взгляд почему-то не выдерживает. Почти сразу же спускается к губам. Касаясь их пальцами, вызывает в одеревеневшей плоти пожар.
Сердце так же быстро вспыхивает. Сжимаясь, принимается пульсировать. Разгоняется и раздувается за секунды от крохотного сгустка до безразмерного шара, переполненного кипящей кровью, хронической болью, одержимой тоской и патологической любовью.
Я молчу. А Соня прижимается к моей груди и начинает так отчаянно плакать, что меня этим цунами едва, на хрен, не сносит. Она практически непрерывно содрогается, надсадно дышит, издает громкие глубинные рыдания, раз через раз захлебывается, хрипит и кашляет. Не знаю, где беру силы, чтобы стоять неподвижно. Ведь каждый этот звук отзывается внутри меня такими, мать вашу, муками, после которых я вспоминаю формулу геометрической прогрессии. Они множатся и множатся. До бесконечности. Растут так быстро, что в какой-то момент мне кажется: еще секунда, и я, блядь, тоже заплачу.
Именно в этот миг Сонины дрожащие плечи опадают, грудь перестает так натужно и быстро двигаться, всхлипывания постепенно стихают. Спустя несколько вздохов она крайне тихо, сквозь остаточный скулящий плач, нашептывает:
– Тест показал две полоски. И я… Я осознала, что больше не могу сражаться.