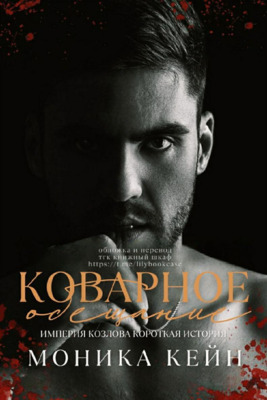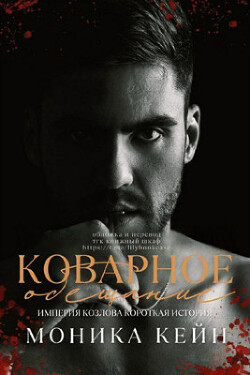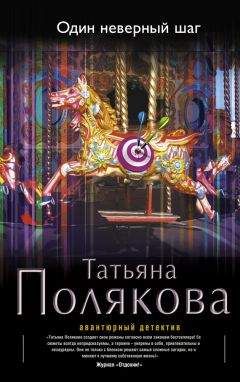— Наварский по привычке посмотрел на часы на стене, словно там висит календарь. У него на работе и у нас в кухне всегда висели такие, отрывные, на три месяца. — Он вчера, кажется, должен был прилететь. Но я не знаю, согласится ли Света.
Он вкратце рассказал, в чём заключается лечение.
— Да пусть уж Сокол её уговорит. В конце концов, что ей уже терять.
— Всё не так просто, Лер. Это надо ехать в Китай. Плюс там на что-то жить. Плюс одной. Она и здесь-то ни с кем не общалась. Умышленно вернулась в старую квартиру, словно бросила вызов своим демонам. Словно хотела сказать, что больше ничего не боится.
— У неё ведь был муж.
— Да, я знаю. И ребёнок. Увы, она его не выносила. А муж… Мне кажется, с ним сработал тот же принцип дефицита.
— Может быть, — вздохнула я. — И жалость порой куда сильнее, чем любовь. Там и не поймёшь, материнское сердце, например, разрывается от жалости или от любви к ребёнку. Так и здесь. Но она хочет туда, к ним? К отцу, к мужу, к ребёнку?
Наварский развёл руками.
— У нас не те отношения, Лер. Не те. Я не изливаю ей душу. И она мне.
— Она тобой восхищается.
— Ну, это другое. Может, ей так было проще — не пускать меня ближе. А я никогда бы себе и не позволил обсуждать с ней то, что могу обсудить только с тобой. Говорить об этом куда сложнее, чем делать. Это как пытаться описать танец. Или музыку. Или картину. Или программный код. Он работает, но как… какая разница, если ты просто получаешь удовольствие от процесса. Она читает стихи, а ты просто стоишь и слушаешь. И ничего тебе больше не надо. Мне с ней интересно, и есть тысячи вещей, которые можно обсудить, не говоря: а вот я, а вот у меня, а вот у моей тёти. Понимаешь?
— Думаю, да. Теперь понимаю.
— Я никогда в тебе и не сомневался, — щёлкнул он меня по носу.
— Так уж и никогда, — наморщила я нос.
— Ну разве что совсем чуть-чуть.
Он чмокнул меня в кончик носа и улыбнулся.
— Поехали домой, Наварский, — встала я.
— Поехали, моя неоспоримая.
— Если я умру, разрешаю тебе спать с другими женщинами, — сказала я, глядя на него царственно. — Через год.
Он приподнял бровь.
— Нет, через два. Или через три?
— Вот, это моя женщина, — кивнул он удовлетворённо. — Обещаю, что буду верен тебе всегда, и никогда и ни с кем не пересплю до гробовой доски, — приложил он руку к груди.
— А я?
— А ты можешь переспать с кем-нибудь на моих похоронах. Хоть со всем оркестром. С горя.
— Хм… А я было решила, что не буду заказывать тебе никакой оркестр. Но если в такой перспективе, — деланно задумалась я. — Выберу музыкантов помоложе.
Я обняла мужа.
— Прости меня. Пожалуйста.
— И ты меня, — ответил он.
— Уже, — кивнула я. — Я люблю тебя.
Я вцепилась в него так, словно с этого момента и до конца наших дней больше никогда и ни за что не собиралась отпускать, даже на секунду.
— И я тебя, — просто сказал он.
И я знала, что мы снова поругаемся, потом помиримся и опять поругаемся, потом я снова дам какую-нибудь клятву и снова её не сдержу, и он снова меня простит. И он тоже мне что-нибудь пообещает, и обязательно сдержит своё слово. И так будет всегда, до скончания времён: я буду глупой и ветреной, он надёжным и сильным, я буду хранить наш очаг и поддерживать в нём огонь, а он возвращаться к его теплу, как бы далеко ни уходил.
Мы оба будем ошибаться и делать неверные шаги, но снова и снова находить дорогу, что будет вести нас друг к другу. А иначе, зачем это всё?
Эпилог
Говорят, настоящая любовь — это когда всё друг другу уже простили.
Когда пережили все несовпадения, все обиды и тайны, любовниц и любовников, бывших и несостоявшихся. Когда притёрлись всеми гранями. Когда всё сказано, обговорено, принято, отпущено и забыто. Когда уже всё друг другу причинили, предъявили, понаделали, возненавидели и простили, соскучились и надоели — и всё же остались вместе.
Есть мнение, в этом много милосердия, настоящего искреннего милосердия к человеку, которого на самом деле любишь.
Это и есть — в горе и в радости. Это и есть настоящее. То самое. Оно.
Именно об этом думала Лера, укачивая на руках сына.
Да, она не хотела третьего ребёнка. Ребёнка в сорок лет.
Они это с Наварским обсудили. И он согласился: нет, значит, нет.
Но выброшенные таблетки и встреча в съёмной квартире не прошли даром.
Она забеременела, когда уже и не собиралась, и вдруг поняла, что хочет этого ребёнка.
Что это больше, чем беременность — это даровано свыше.
Дано не в назидание, не ради исправления ошибок, не в искупление за грехи, не в наказание.
Это — для счастья.
И она его себе позволила.
Счастье.
Самую приятную из своих беременностей. Самые лёгкие роды.
И слёзы мужа, что смотрел, как она укачивает сына, и сквозь них улыбался.
Она знала, что они справятся. Что бы ни случилось — справятся. Она — справится.
Теперь — с чем угодно.
Она всё же не бросила работу и перешла в офис.
— Не представляю, как я тут теперь без тебя, — сокрушался Баженов,