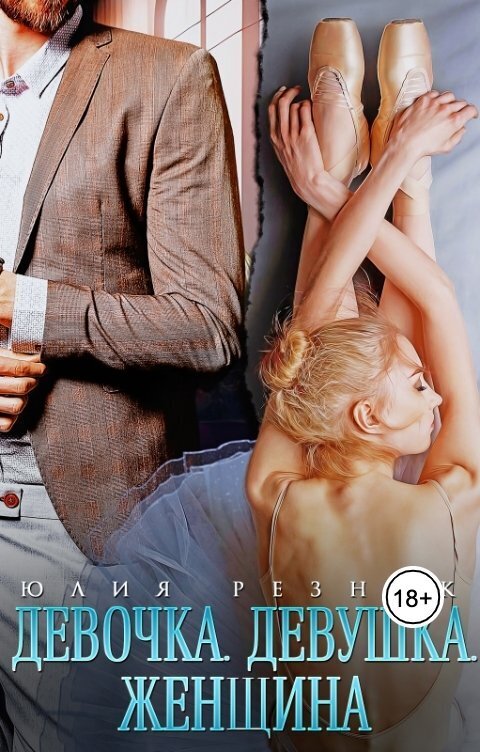стороны, мне нужно было сосредоточиться на танце, с другой — я не совсем понимала, как это сделать, если взгляд то и дело убегал к странного вида людям, сидящим рядом с Даной Родионовной на школьных стульчиках в первом ряду. В конце концов, не каждый день я могла увидеть всамделишных бандюков — было немного страшновато, но интере-е-есно! В итоге вариации я станцевала так себе, но под конец реабилитировалась в фуэте. Я зафиксировала точку на поблескивающей фиксе во рту главаря, взяла форс и крутила, крутила, крутила, делая что-то совершенно невозможное, как я потом уже поняла, для своего возраста. Я как сейчас помню того Вершинина: стриженного почти под ноль, ужасно неуместного в том зале — ведь где он, а где балет, и вообще…
Этот Вершинин от того отличался кардинально. Хорошая стрижка, ухоженные, без следа наколок, руки. Вместо пиджака, который полагалось носить людям его положения, вполне демократичное поло. Но главное, разговор. Он избавился от бандитских повадок, отточил речь и действительно выглядел скорее хорошо знающим себе цену автократом, чем вчерашним зэком, каким он мне навсегда запомнился.
— Ешь, Есения. А то остынет. Вина?
— Нет, — по привычке отказалась я, но вдруг вспомнив, что мне больше нет нужды ни от чего воздерживаться, передумала: — А вообще давай… те.
Все равно было ужасно неловко разговаривать с ним на ты.
— Мне всего тридцать девять, — усмехнулся Вершинин, словно считывая мои мысли. — У тебя сменился партнер?
— Что?
— Тебе дали хилого партнера? Ты сильно исхудала.
— А… Вы не знаете? — непонятно чему удивляясь, вскинула брови я. В конце концов, ничего удивительного в том, что он вычеркнул меня из своей жизни, не было. Умерла — так умерла. Это было вполне в духе таких сильных личностей, как Вершинин. — Я больше не танцую.
В этом месте что-то в его лице дрогнуло. Или мне так показалось.
— Как это?
— Вот так. Травма.
— Но как же? Разве ничего нельзя сделать? Реабилитация, там, я не знаю… Ты поэтому позвонила?
— А? Нет! Что вы… — отмахнулась я. — Тут вот какая история.
Отложив приборы, я принялась торопливо рассказывать о ситуации, с которой столкнулась мать. Вершинин внимательно слушал, чуть наклонив голову к плечу. Взгляд у него был острый, как скальпель. Пронизывающий до костей. Мне под ним почему-то казалось, что он совершенно не верит в мамину невиновность. И от этого я под конец окончательно разнервничалась.
— Есения, ты, пожалуйста, ешь.
Я послушно стала накручивать макароны на вилку.
— Вы мне не верите…
— Это не имеет значения. Я…
— Я сделаю все что угодно. На все соглашусь, — выпалила, зажмурившись. Сердце как ненормальное колотилось в ушах и горле, страх накатывал. Вершинин был моей последней надеждой. Моей и маминой. Я не могла ее не оправдать, понимаете? Я уже не оправдала ожиданий в профессии, и тут… Тут не могла облажаться. — Пожалуйста, Артур. Помоги.
Взглянуть на него в тот момент я не нашла в себе сил. Но, даже устремив взгляд на стол, было сложно не заметить, что он в ярости — до того сжались его руки на приборах.
— Пожалуйста.
Я больше ничего не смогла из себя выдавить. Закончились силы. Он тоже ничего не сказал. Обед продолжался в молчании. Я ела, не чувствуя вкуса, потому что он так велел. Он ел и пил. Пил много, в какой-то момент принеся на стол из встроенного в стенку бара бутылку коньяка.
— Артур…
— Поела? Я позвоню Петровичу. Он тебя отвезет, — опираясь распластанной ладонью на стол, Вершинин начал подниматься из-за стола, и тут на меня что-то нашло, не иначе.
— Помогите. Ну что вам стоит? Она ни в чем не виновата! Должно же быть в вас хоть какое-то сочувствие. Вы же сами сидели! А она женщина… Еще молодая совсем. Ваша ровесница почти, — частила я, впиваясь короткими ногтями в его загоревшую почти дочерна руку.
— Езжай домой, Есения. Все будет хорошо.
Спокойный тон ему давался не без труда, но это я уже потом поняла, когда собственная истерика схлынула.
— Но…
Вершинин осторожно разжал мои пальцы и, приложив трубку к уху, отошел к панорамному окну, из которого открывался отличный вид на вулкан. Я смотрела на его широкие гордо расправленные плечи, я вслушивалась в слова (он велел водителю отвезти меня, куда скажу) и захлебывалась ужасом, совершенно не сравнимым с тем, что меня охватывал, когда я думала о счете, который он мог бы мне предъявить.
— Семен, проводи мою гостью к машине.
— Артур Станиславович! Артур, но…
— Все будет хорошо, Есения. Я же сказал. Сейчас мне нужно поработать.
Мне хотелось заорать — какое, мать его, хорошо?! Но я лишь всхлипнула обреченно и пошла вслед за вершининским помощником. И слава богу, что по балетной привычке шла с гордо выпрямленной спиной, и вздрогнула лишь однажды, когда в закрывшуюся за мной дверь прилетело что-то тяжелое и разбилось.
Чуть более чем за год до основных событий.
А потом грянул гром…
Я изо всех сил вцепился в дубовую столешницу стола, чтобы не побежать за ней следом. Процедил воздух сквозь зубы, опустил взгляд и к херам разгромил все, что на нем стояло. На пол посыпались бокалы и тарелки. Ваза разбилась. Трупы цветов со сломанными хребтами разметало по паркету.
— Охренеть. И что я пропустил? — присвистнул, влетая кабанчиком в кабинет, мой друг и правая рука.
— Ничего.
— Да? — ухмыльнулся Слава. — А я, кажись, твою фифу видел. Ты че, Верх, опять по ней угораешь? Вроде же отпустило?
— Отъебись, — обрубил я, отворачиваясь к окну. Тайфун, которым нас пугали весь день, видно, таки случился. Ветер налетел с новой силой, бросил в окно дождь, захлестал с таким отчаянием, что казалось, стекло не выдержит и оплавится. Снаружи разыгралась страшная непогода. И что-то такое же страшное для меня самого, для Есении… разгулялось внутри. То, что я в себе который год давил! Давил, понимая, как неправильно будет взять ее только потому, что могу себе это позволить.
Ч-черт. Это ж надо было так вляпаться в эту девочку… Кто бы мне сказал, когда мы с ней в первый раз встретились, что эта мелочь так меня, взрослого мужика, скрутит? А я тот вечер помню, как будто это было вчера. Стоит зажмуриться, и перед глазами встанут события семнадцатилетней давности:
— Может, ну его, а? Бабла отлистаем, и в путь. Ну, на кой мне эта самодеятельность? — ныл я, с тоской пялясь на вывеску школы.
— Слушай, Верх, я не пойму. Ты же хотел, чтобы тебя