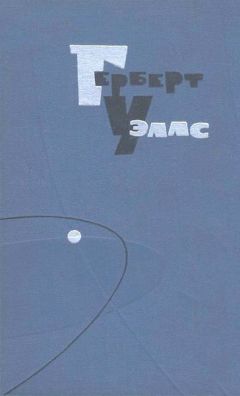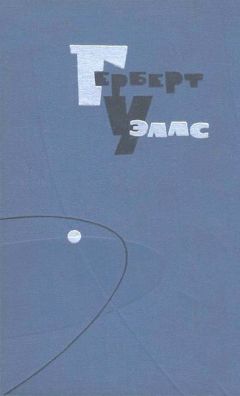От волнения Миша нечаянно хрустнул пальцами:
— Хорошо.
— Значит, договорились?
— Договорились.
«Так вот оно что!» — подумал Миша, выходя назад в солнечный коридор.
У него точно гора с плеч свалилась. Значит, и вправду не было никаких подслушивающих устройств и слухов о кокаине. И первый отдел вовсе не жаждал крови студента Степанова. Наоборот, его облечили высоким доверием, дали сложное задание, пожали на прощание руку — как настоящему боевому товарищу…
— Ну, соседушка, держись! — прошептал Миша. Он явственно представлял себе, как принесет просиявшему Петру Ивановичу досье на Алекса: со всеми явками, паролями, именами… В школу КГБ Мишу примут без собеседования. И дадут орден, который будет скромно храниться в ящике письменного стола. Носить его Миша не станет. Зачем хвастаться? Советского человека украшает скромность.
Уже через несколько дней пребывания в СССР Алекс посчитал, что более-менее освоился с окружающей действительностью.
Странностей вокруг было много. Во-первых, оказалось, что это не советские студенты платят за учебу, а государство платит им, чтобы они учились. И еще, нельзя было выбирать себе предметы — ни в школе, ни в вузах. Человек поступал на факультет и был обязан обучаться тому, чему велели.
Во-вторых, отношение русских к иностранцам. Это была загадочная смесь зависти, чувства превосходства и недоверия. Одногруппники Алекса по-разному реагировали на это: кто-то нервничал, кто-то списывал все на особенности русского менталитета.
— А что тут удивительного? — пожимал плечами Жека. — Зависть — потому что у вас много всяких здоровских вещей. Чувство превосходства — потому что СССР — это колыбель мировой революции.
— А США — колыбель демократии, кока-колы и Мерилин Монро! — сразу нашелся Алекс.
— Один — ноль в нашу пользу, — сочувственно вздохнул Жека. — Мне Мерилин Монро тоже нравится, но против мировой революции она не катит. А не доверяют вам потому, что вы враги.
Впрочем, Алекс не особо страдал, когда кто-то вроде Миши Степанова воспринимал его как потенциального людоеда и кровопийцу.
— Всю жизнь мечтал побыть отъявленным злодеем! — довольно хихикал он.
Алекс действительно не упускал возможности слегка поизмываться над своим соседом: то расспрашивал его о московских проститутках, то заводил разговоры о сущности коммунизма: мол, объясните неграмотному, что это такое. Миша мялся, пытался отделываться цитатами из классиков марксизма и в результате Алекс всегда ловил его на том, что тот толком ничего не знает.
Вступить в настоящий конфликт Степанов не решался: то ли смелости не хватало, то ли давало себя знать приличное воспитание.
Зато с Пряницким у Алекса сложились самые что ни на есть теплые отношения. Жеке было абсолютно плевать на негласные запреты водиться с иностранцами. Он был вольнолюбивой птицей: жил так, как хотел, говорил, что думал. В нем присутствовал какой-то неуловимый дух внутренней свободы, которого так не хватало прочим русским знакомым Алекса: профессорам, сотрудникам международного отдела, работникам общежития…
Распорядок дня американских студентов был устроен так, что у них практически не было возможности расширять свой круг общения: с утра учеба, потом работа над диссертацией, потом куча домашнего задания. Да и жили они особняком ото всех остальных. У некоторых ребят заводились русские друзья-приятели, но это было скорее исключением, чем правилом.
Бобби тяжелее всех переносил жизнь в Советском Союзе.
— Эта леди, которая сидит на входе, сказала мне, что я фальшиво улыбаюсь, — сокрушался он, вспоминая свой разговор с вахтершей Марь-Иванной.
Алекс успокаивал его, как мог:
— Да ладно, не принимай близко к сердцу! Тебя же предупреждали: здесь не принято улыбаться незнакомым.
— Но почему?! — хватался Бобби за голову. — Почему я не имею права просто улыбнуться?!
— Потому что у русских улыбка имеет другое значение. Мы улыбаемся, когда хотим показать, что ничего не имеем против человека, а они улыбаются только тогда, когда выражают искреннюю симпатию. Это просто разные знаковые системы.
— Не нравится мне такая знаковая система, — ворчал Бобби. — У Тургенева и Лео Толстого написано, что русские — очень открытые, гостеприимные и радушные люди. А где ты видел радушного русского? Ты заметил, какие у них лица, когда они направляются на работу?! Они же как на войну едут!
— Кажется, ты начинаешь судить всех русских по Марь-Иванне, — посмеивался Алекс.
Алекс с Жекой ехали на Центральный телеграф, откуда можно было дозвониться до Америки.
В метро было сумрачно и тесно. Кто-то читал, кто-то разговаривал с попутчиками, кто-то просто ушел в себя. Сжатый со всех сторон горячими телами москвичей, Алекс болтался на поручне. Его всегда веселили подобные поездки. Здесь, в метро, как нигде ощущалось единение советского народа.
— Не понимаю, что тут смешного, — ворчал на него Жека. — Все белые люди давным-давно на машинах ездят, а ты тут давись, как селедка в бочке.
— А где еще можно безнаказанно пообниматься с незнакомыми дамами?! — отозвался Алекс.
В этот момент вагон тряхнуло и к нему на грудь упала какая-то девушка в голубой курточке:
— Простите, я не хотела!
— Вот это и обидно! — рассмеялся Алекс, помогая ей принять вертикальное положение.
Девушка была весьма симпатичной: яркие губы, острый подбородочек, густая челка над темными вишневыми глазами.
— Марика? — узнал ее Жека.
— Пряницкий? — Виноватое выражение лица девушки сменилось на сияющую улыбку. — Ничего, что я придавила твоего друга?
— Он, кажется, не имел ничего против, — ревниво пробубнил Жека. — Это Алекс Уилльямс, он учится в нашем институте.
— Иностранец? — приподняла она бровь и, к величайшему сожалению Алекса, тут же потеряла к нему всякий интерес. — Ты куда сейчас? — спросила она у Жеки. — На Центральный телеграф? А меня сестра попросила на рынок заскочить.
Пряницкий глядел на нее, плотоядно осклабившись:
— Ты на картошку-то едешь?
— Конечно, еду. Ты зря вчера общее собрание прогулял. Декан собрал всех в актовом зале: «У нас по статистике на сто человек должно быть двое-трое больных. А вы мне подали восемьдесят три справки об освобождении. Я не врач, разобраться, кто есть кто, не могу, так что на картошку едут все. А тех, кто действительно болен‚ мы отчислим по состоянию здоровья».
— Ну, при таких условиях явка будет стопроцентной!
Марика потрепала Пряницкого по плечу:
— Ладно, мне на следующей выходить. Позвони мне, хорошо?
— Позвоню, позвоню.
— Кто это? — спросил Алекс, когда она вышла из вагона.
Жека перевел на него затуманенный взгляд.
— Девчонка из моей группы, Марика Седых. Симпатичная, правда?
— Угу.
Иногда Алекс смотрел на людей и невольно сравнивал их с чем-нибудь: Бобби был похож на сдобное тесто, Жека — на москита… А вот Марика оставляла после себя привкус тонкой восточной пряности. Черный кофе, яркое солнце, смуглые щиколотки в золотых браслетах — что-то в этом роде.
— У вас с ней роман? — спросил Алекс Жеку.
Пряницкий трепетно вздохнул:
— Ну, в какой-то степени… Я на первом курсе предложил ей со мной переспать, а она меня послала. Вот с тех пор и дружим. Договорились с горя пожениться, если нам совсем не повезет в личной жизни.
Кажется, девушка была свободной. Что ж, отлично!
— А что такое «картошка»? — осведомился Алекс.
— Это наш народный обычай, — с гордостью пояснил Жека. — Каждую осень все городское население снимается с насиженных мест и отправляется в деревни собирать урожай: капусту, морковку, кормовую свеклу… Все вместе называется «ехать на картошку».
— Вам за это платят большие деньги?
— Не-е. Знаешь, что такое барщина? Вот это то же самое. Едут все: от школьников до профессоров.
— А что в это время делают ваши фермеры? Почему они не убирают свои урожаи?