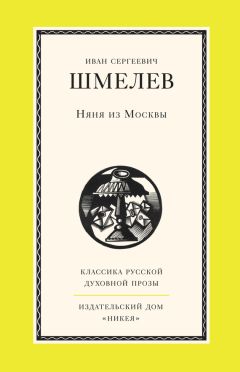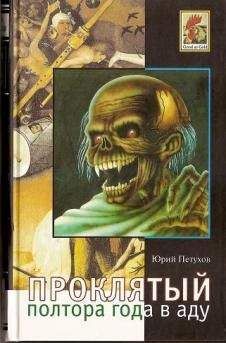И, замечая мой взгляд, моргает, подходит неслышно и томик Ахматовой из моих рук вынимает.
— Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
— Что?
— Самое любимое стихотворение твоего брата, — она объясняет тихо, прижимает книгу к груди и по комнате проходится. — Я виновата. Помнишь наши посиделки? Я сказала, чтоб не сглазить и если что… и если что случилось. Из-за меня.
Вета опускается в подвешенное кресло, отталкивается бездумно ногой.
И железная опора тихо поскрипывает, заполняя тишину.
— Тетя Инга читает сусликам, — Квета бледно улыбается, замечает мельком, — ты смешно их называешь, рассеянного с улица Бассейного. Она сказала, что это была твоя любимая книга в детстве.
— До дыр, — я соглашаюсь и рядом с ней сажусь.
Висящий кокон огромен.
— И ты не виновата.
— Виновата.
— Тогда и я. Он четвертые сутки в стабильно тяжелом состоянии, в коме. А я не могу к нему даже зайти, боюсь увидеть… таким. Он всегда был сильным, а сейчас…
— И сейчас сильный, самый сильный на свете, — Ветка кривит улыбку сквозь слезы, что размазывает по лицу, — он борется. И Кирилл. Ты знаешь, что остановка сердца была семь раз во время операции?
Она поворачивает голову, выдыхает, сдерживая слезы, и повторяет явно чьи-то слова:
— Кроме Лаврова столько никто бы качать не стал. Тридцать минут и все, да?
— Да, — я повторяю эхом.
И сухая формулировка о прекращении реанимационных мероприятий при признании этих мер абсолютно бесперспективными или констатации биологической смерти, а именно при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций в течение тридцати минут, бьется в голове.
Зачем Палыч на хируходе заставлял нас ее зубрить?
— В последний раз завели ровно на тридцатой минуте, — Квета поясняет без слов, подтягивает ноги к груди.
— Откуда?..
— Подслушивать полезно.
— Конечно, — я соглашаюсь, прислушиваюсь к шуму с первого этажа.
Мама занята с сусликами, и их веселые вопли и визги долетают и до сюда, а Эль топит баню, заверив, что как Ромка прошлым летом, отжигать не будет.
Заслонки он вынимать умеет.
— … «это что за полустанок?» — закричал он спозаранок, — мамин голос в тишине доносится отчетливо, выразительно. — А с платформы говорят: «Это город Ленинград»…
— Знаешь, из нее получилась бы замечательная бабушка, — Квета вздыхает, бодает отчаянно меня в плечо. — Страшно, Рина. Когда ты позвонила, я никогда не думала, что бывает настолько страшно.
Бывает.
Еще необъяснимо тревожно, словно еще не все.
Краткое затишье перед очередной бурей.
Нет, хватит. Я сжимаю кулак до боли, впиваясь полукружьями ногтей в кожу, дышу медленно, и паника отступает.
Хотя бы один вечер будет светлым.
Тем более мама зовет, напоминает о времени, совести и не нарезанных салатах. Просит не быть хомяком и уверяет, что главный ребенок ее жизни, это все равно я.
Более неразумных личностей она не встречала.
— Пошли помогать разумным личностям, — я пихаю Квитанцию. — Скоро, правда, па и Кирилл приедут.
Сначала па.
Он заезжает с другой стороны, где ворота и асфальт к крыльцу. И первым его замечают суслики, несутся, забрасывая найденные Димкины машинки, и па их ловит, подхватывает на руки.
— Как он? — мама выходит следом, спрашивает, вглядываясь в беззаботное и улыбающееся лицо.
— Без изменений, — па отвечает коротко, и по его лицу скользит темная тень.
Пропадает быстро, и центр его Вселенной — монстры, коих он обещает научить делать настоящие шашлыки, завлекает интересными историями и байками с собой в беседку.
И Эльвина прихватывает.
Шашлык, настоящий, ему тоже надо уметь готовить.
— Ага, приготовить, мариновали так-то мы, — Квета возмущенно бормочет, и локтем неожиданно пихает, указывает за забор. — Смотри, это же Кирилла машина?
По черной крыши, что едва виднеется, не понять, но я пожимаю плечами и за ворота выхожу. Поворачиваю направо, и да, у забора стоит внедорожник Кирилла.
Его номер.
И его лицо за стеклом, вот только выражение лица не его. Слишком… злое, искаженное, и я вижу, как он ударяет кулаком по рулю.
Что происходит?
Я медлю, и, подняв глаза от руля, Кирилл меня замечает.
Поджимаются резко очерченные губы, и разговор он заканчивает быстро. Откидывает телефон на соседнее сидение, а затылок на подголовник, когда я открываю его дверь.
— Привет.
— Привет, — он поворачивает голову, смотрит устало и, подняв руку, хватает за запястье, тянет, заставляя сделать пару шагов, приблизиться окончательно. — Я купил уголь и даже отыскал тамарилло. Ты знаешь, как дико сложно найти эти банальные помидоры с небанальным названием?
— Знаю, — я натянуто улыбаюсь, — на седьмом километре крохотный магазинчик с названием, написанным мелом и мелко. Там торгует старый дед в расшитой узорчатой жилетке и тюбетейки. У них нет интернет-сайта, и найти их почти невозможно. С кем ты сейчас разговаривал?
Кирилл молчит, смотрит.
Решает.
И говорит, почти не размыкая губ:
— Следственный комитет. Есть… некоторые трудности, крючкотворы и дураки. Все как всегда, — он вздыхает, зарывается рукой в мои волосы и шепчет лоб ко лбу, — Даша… не проси подробностей. Я не хочу тебе лгать, но и правда не для этого вечера.
Не для этого.
Я сама хотела вырвать у жизни один светлый вечер, забыть эгоистично обо всем мире и тонне его проблем, улыбнуться по-настоящему.
— Хорошо, тогда поцелуй меня.
Легко и сильно.
До стертой с губ горечи и соли от уже пролитых слез.
До улыбки, настоящей.
До самоуверенности, только твоей, что вытащила Димку с того света.
Я знаю, что кроме тебя никто не смог бы. Я знаю, что солнце на багряном востоке принесет новые проблемы и воскресит старые, но сейчас над головой чернильная ночь с рассыпанным жемчугом звезд.
Крыльцо.
И накинутая на плечи куртка, от которой пахнет Кириллом и немного дымом. В процесс приготовления настоящих шашлыков па его тоже увлек.
— Твои родители спорят какую сказку читать монстрам, — Кирилл говорит со смешком, садится и к себе притягивает, заключая в кольцо рук.
— То есть, что укладывают сусликов вместе, они договорились?
— Да, победила дружба, как сказал твой отец.
— Па, — я поправляю машинально.
И незаданный вопрос затылок сверлит. И, пожалуй, спиной к нему рассказать получится. Все равно ведь придётся, так почему не сейчас?
Ночью постыдные факты раскрываются легче.
— Отец — это отец, биологический. Владимир Архипович. Мы… у нас договор.
Денежный.
Чистая юридическая сделка без намека на родственные чувства.
— Какой?
— Я играю примерную и любящую дочь, а он мне за это платит.
Я — единственный ребенок Владимира Архиповича, и как бы он не старался оберегать личную жизнь, обо мне узнали, спросили в шутку о брошенной дочери.
Вот только в каждой шутке доле правда, а у богатого и успешного бизнесмена с кристально чистой репутацией брошенных детей быть не может, поэтому на пороге квартиры он объявился вовремя: я как раз бунтовала против всех.
Согласилась, не задумываясь, на его деловое предложение и сумму назвала, а он усмехнулся и тоже согласился, сказав, что я в него.
— Хорошие деньги за вечер на юбилее или пару написанных и заученных слов в интервью, — я усмехаюсь, вспоминая газету, коей так нервно тряс Аркадий Петрович. — Моя очередная мачеха называет меня продажной тварью.
И в общем-то, она права.
— Ты не тварь.
— Мерзкая сделка и деньги… мне ведь мама с па дают, хватает, но… у него я тоже беру, приезжаю, когда просит. Я… я не могу отказаться. Самое гадкое, что мне не стыдно, мне не стыдно брать его деньги, понимаешь? Скажи, что я ужасная.
Я требую зло, пытаюсь выкрутиться, повернуться, чтобы увидеть, заглянуть в глаза, где должно быть отвращение и разочарование.
— Ты лучшая, лагиза.