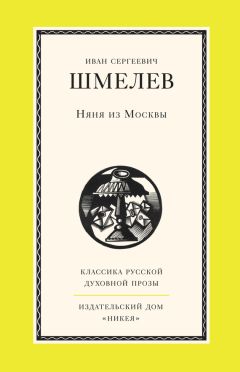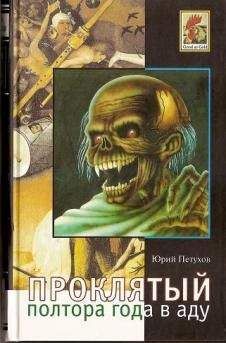Квета говорит серьезно.
Ассоциирует Черного Лиса напрочь с Ромашовым из «Двух капитанов» и, глядя на протянутую фотографию со светловолосым узколицым парнем, я все равно вижу вместо него…. Ромашку, рыжего, с оттопыренными ушами и совиными глазами.
— Саню с Ромашкой жизнь свела в санитарном поезде и в осиновой роще оставила, а Кирилла с Тяпой в Верх… Верхненеженске, — длинное название Ветка выговаривает с трудом, медленно, но упрямо. — Они даже приехали туда почти в одно время. Обличительные статьи про больницу и беспредел врачей у Тяпы стали фишкой, личным стилем. Ему Кирилл даже по роже один раз съездил, за что, правда, неизвестно, но за местного героя и бойца за правду народ в соцсетях обиделся.
— Мало врезал… — Ромка цедит сквозь зубы.
И, видя перед глазами статью, я мысленно соглашаюсь.
— А еще… — Ветка шумно вздыхает, смотрит на меня, произносит осторожно, — у Кирилла была невеста.
— Еще скажи, что Черный Лис ее тоже любил, — я фыркаю.
Гашу глухое раздражение.
Словосочетание «невеста Кирилла» злит, карябает, не нравится в категории абсолют, даже с глаголом прошедшего времени.
— Нет, — Квета медлит, говорит размеренно, раздражая, — у Кирилла свадьба должна была быть через неделю после… случившегося, но Надежда оказалась без веры и любви. Она… поверила Тяпе, что костер в соцсетях разжигал умело и поддерживал ежедневно, и убитой горем Каролине Игнатьевне. Невеста без места публично сказала, что Кирилл убийца и она ненавидит его. И кольцо ему в лицо кинула.
— Молодец, — Ромка восторгается совсем не восторженно.
Хвалит ёмко.
А Кветка вздыхает:
— Лис надеялся, что после такого резонанса его заметят и позовут, если не в столичные журналы, то хотя бы столицу малую, но…
— Не позвали? — я уточняю желчно.
И Ветка соглашается с не меньшей желчностью и злорадством:
— Нет, геройство местного правдолюбца не заметили. Трясли только больницу и Кирилла, тьма проверок, ответы на жалобы. У меня голова заболела, когда я увидела эти талмуды, — Квитанция жалуется, морщит нос и добавляет хмуро. — Кириллу больше всех досталось. Это… травля, по-другому не скажешь. Письма, надписи, машину сначала разрисовали, а потом сожгли. Еще его в областную приглашали, но отказали, как все случилось… И полгода — это много, я бы не выдержала. Он уехал сразу, как дело было закрыто.
— Почему снова открыли? — спрашивает, не глядя на меня, Ромыч.
Он вообще смотрит исключительно на дорогу, идет на очередной обгон, а я пристально разглядываю мелькающие за окном поля, лес и вереницы машин.
Длинные и пыльные бока большегрузов.
Почему он мне не сказал?
Не рассказал ничего, промолчал, подарил букет эустом и на руках по широкой длиной скамейке, когда возвращались домой, на спор прошелся.
Дурак.
— Каролина Игнатьевна написала жалобу, заявила об вновь открывшихся обстоятельствах, — Квета произносит неохотно, кривится, — я с ней общалась, а психиатр, видимо, нет, хотя следовало бы. Сумасшедшая дамочка. У нее непробиваемая уверенность, что виноват Кирилл. Ей проще доказать, что Земля квадратная, чем его невиновность. Она Кирилла весной увидела по новостям. Он что-то рассказывал, заведующий реанимационного отделения…
— Не вынесла душа поэта?
— Не вынесла. Тем более, что новые обстоятельства действительно открылись, — Квета задумчиво стучит пальцем по губе, размышляет. — Мамаша тогда орала истошно, что Кирилл перепутал препараты, что она лично слышала. Медсестры говорили, но… всех опрашивали на несколько раз и никто ничего подобного не сказал. Все уверяли, что помощь была оказана грамотно и своевременно. Вот только… с Кириллом тогда постоянно было две медсестры, и одна из них сейчас вдруг объявила, что Каролина Игнатьевна права и Кирилл напутал. Даже в суде готова подтвердить.
Обвинить.
И на пять лет за решетку упечь.
Я не смогу.
Или нет, смогу.
Человек может все. Он привыкает ко всему, смиряется с неизбежным, терпит, учится жить дальше через силу и себя как бы не было невыносимо.
Ждать.
Я не хочу.
До исступления, ярости, жгучей ненависти… я не хочу жить без него.
Без моего кофе по утрам, его вечных сигарет, споров, язвительных замечаний, рассказов обо всем, обезьяньих прыжков при встрече, совместного душа, сводящих с ума поцелуев, запаха, что уже стал вторым кислородом.
— Данька… — Квета зовет жалобно, касается плеча, — Дарийка, его не посадят.
Конечно, я уже слышала.
Адвокат Лаврова сам Густав Сигизмундович Лель, легенда и не из-за своего имени. Он разваливал неразваливаемые дела, выигрывал там, где проиграл любой другой бы, вытягивал невозможное и однозначно обвинительное.
Плевако двадцать первого века не меньше.
— Дах, не реви, — Ромка просит.
И я не реву.
Я смотрю на белую стелу города.
Верхненеженск.
Здравствуй, я ненавижу тебя уже.
— Если бы вторая медсестра опровергла слова этой, то было б проще, — Вета бормочет удрученно, — но ее найти не удалось. Она тогда тоже уволилась и уехала. Пропала с концами.
— Ничего, прорвемся, — Ромка цедит ожесточенно, тормозит на светофоре и с навигатором сверяется.
Я же разглядываю.
Пятиэтажки и частный сектор.
Машины на чистых тихих улочках с липами и тополями вдоль тротуаров.
Заправка.
Парк с чертовым колесом и трибунами.
Щекастый бутуз играет в песочницу, плюхается на попу и, пока бабка всплескивает руками и мчится поднимать, сосредоточенно продолжает утрамбовывать песок лопаткой. Бежит собака, останавливаясь на красный, ждет и на такого же ожидающего велосипедиста смотрит. Гуляют матери с колясками, влюбленные парочки и дети, а две женщины стоят у «СтройМага» дискутируют оживленно и огромные сумки им не мешают.
Город… живет.
А Кирилла судят.
— Машин… не приткнуться, понаставили, — Ромка ворчит с интонацией матерого водителя, пригибается, всматриваясь, в поисках места.
Проезжает.
— Стой!
Я кричу, а Ромка ударяет по тормозам.
Ругается замысловато, но… не слышу.
И не вижу.
Вываливаюсь на очередную тихую улицу, где метрах в пятидесяти от меня за кованой оградой и кустами акаций возвышается с флагами здание суда, пробираюсь между припаркованными машинами на тротуар, останавливаюсь, ибо ноги в первый раз наливаются свинцовой тяжестью, как пишут в книгах.
Не идут.
И кто-то из прохожих, выговаривая сердито про соленые столбы посередь дороги, задевает плечом, пихает, но… все равно.
Я не могу оторвать взгляд от Лаврова.
Он не замечает меня.
Курит привычно, привалившись к капоту своего обожаемого монстра, щурится не менее привычно и иронично, разговаривает с пузатым дядечкой в круглых очках и с блином залысины на макушке, в коем по фотографиям Кветы я признаю Петра Васильевича, бывшего главного врача, его сняли с должности.
Дали народу требуемую кровь.
А сегодня?
Если Кирилл стоит тут, то… оправдали?
— … вишь разговаривают, как ни в чем не бывало…
— … да понятно, что виноват. Ай… своих просто завсегда прикрывают, а девку бедную запугали, вот и отказалась от слов…
Идущие мимо меня две бабки, злобно оглядываются, переговариваются громко и от их слов я вздрагиваю, не слышу продолжения, но мне хватает и этого.
И они не правы.
Не виноват.
И как ни в чем не бывало Кирилл не стоит.
У него скупые движения, четко выверенные, а на лице застывшая каменная маска равнодушия, безразличия и непробиваемого спокойствия.
Хладнокровия, которое я видела только в ночь аварии.
И шаг к нему делается сам, второй, а на третий разрывается вибрацией и «Leb' deine Träume»[3] мой телефон, заставляет подпрыгнуть, а Кирилла обернуться.
Увидеть меня.
Дать трещину хладнокровию, невозмутимости и выдержке.
И, отвечая не глядя, я не могу оторвать взгляд от его глаз, выражения лица, что говорят обо всем, дают ответы раз и навсегда на все мои сомнения и мучительные вопросы.