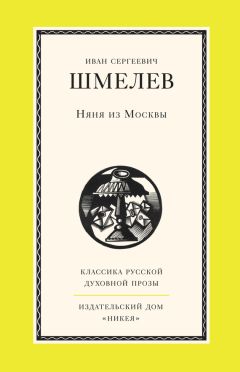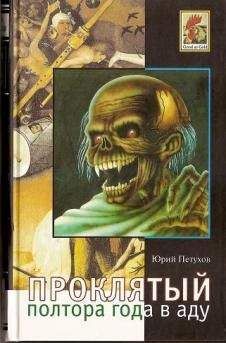И про больничные правила я забываю.
Не думаю про тишину.
— Кирилл!
Я окликаю его на весь коридор реанимации, отвлекаю от важного разговора, запрыгиваю с разбега и повисаю, чтобы рассмеяться и зачеткой перед его носом помахать.
— Я сдала!
— На пятерку?! — он подозрительно щурится.
Выхватывает зачетку из моих рук.
Смотрит придирчиво.
— Ты Лиану пытала пением или морила голодом? — Лавров интересуется деловито, иронично, и в синих глазах искрится смех.
— Нет, она всего лишь неделю жила на приготовленной мной еде.
— Так и знал, что выберешь самое страшное.
Кирилл наигранно сетует.
Ужасается.
И деликатный кашель за спиной возвращает с небес на землю, ставит на пол, напоминает о собеседнике Лаврова, коим оказывается Иван Саныч.
Приятель па смотрит благодушно, не скрывает улыбку, подмигивает мне, пока я смущенно улыбаюсь, блея приветствие, и лицо на груди Кирилла пытаюсь спрятать. И, переведя взгляд на Кирилла Александровича, он серьезно просит:
— Ты все ж подумай, Кирилл, уходить совсем. Может совместительство сделаем?
Что?
Я задираю голову, смотрю на Лаврова удивленно и локтем пихаю. В областную больницу на должность сразу заведующего отделения его позвали еще в начале декабря, и я две недели ходила язвила, что к столь важной персоне теперь будет и на кривой козе не подъехать.
— Иван Саныч, я отказался, — Кирилл, переставая улыбаться, требуемую мной правду говорит.
Оглашает решение.
Сложное и легкое одновременно.
Правильное, ибо тогда, после Кот-д’Ивуара и с подмоченной основательно репутацией, Иван Саныч его взял сразу и без всяких условий.
Поверил.
— Остаешься? — Иван Саныч недоверчиво хмурится, вглядывается в наши лица, ища подвох.
— Остаюсь, — он подтверждает легко.
Смеется.
— Зарплату не поднимем, — Иван Саныч хмурит кустистые брови, играет ими, предупреждает быстро, вызывая новый приступ смеха и насмешливый вопрос:
— А в отпуск хотя бы можно?
— Можно, — всемогущий начмед весело фыркает.
Расщедривается.
Ибо отпуск у Лаврова начался уже сегодня.
В восемь утра, как закончилось ночное дежурство. И об этом мне напоминают, объявляют решительно, что нам пора и, накручивая мне кое-как разноцветный шарф и на лицо, подгоняют.
Торопятся.
И машину около обыкновенного здания с серым крыльцом паркуют, командуют на выход и под локоть подхватывают. Взбегают быстро по припрошенным снегом ступеням, держат за руку крепко, и золотистую табличку справа от дверей я прочитать не успеваю.
— Ты куда меня притащил, Лавров? — я интересуюсь и со смехом, и с удивлением.
Оглядываюсь по сторонам.
Разглядываю овальный холл с белыми колоннами, деревянные двери, скамейки, воздушные шары, плакаты… с голубями и двумя переплетенными кольцами.
— Это что… загс?!
Я спрашиваю потерянно, враз севшим голосом. Кручу головой по сторонам, пока не натыкаюсь взглядом на Кирилла и жду, когда он объявит, что мы на экскурсию.
Просто так.
Шутка.
Не самая удачная.
Поскольку Алла Ильинична при каждой встрече не забывает упомянуть о важности священных уз Гименея, отчитывает и уверяет, что Авария, вымахавшая в холку мне выше колена, не может счастливо существовать в нашей недосемье.
А Алла Ильинична, не видя штампа в моем паспорте, не может спокойно помереть.
— У меня к тебе сделка, — Кирилл подходит неспешно, оставляет шаг между нами, говорит вкрадчиво, самоуверенно, слишком самоуверенно.
И дернувшийся уголок рта его волнение выдает.
— Какая?
Я запрокидываю голову.
Разглядываю черты лица, что уже давно воспроизвожу по памяти, повторяю, не задумываясь, знаю и люблю.
И улыбка появляется сама.
— Я дарю тебе кольцо, а ты говоришь «да».
— А… а у меня… у меня из документов только зачетка. В ней штампы не ставят…
— Твой паспорт у меня.
— А кольца?
— Купил.
— Красивые?
— Твои, мои и вся группа одобрили.
— А…
— Без свидетелей можно.
Хорошо.
Тогда и невесту поцеловать можно.
Жену.
Странно, непривычно, стремительно… просто, и, выйдя на крыльцо загса, я карябаю ногтем новоявленный штамп в паспорте, разглядываю его недоверчиво при свете дня и послюнявить, пытаясь стереть, готова.
— Ты еще на зуб проверь, — Кирилл хмыкает над головой.
Прячет улыбку.
И я смотрю на него подозрительно.
Мои ведь гады не могли ему рассказать про беременность?
Они обещали, напоминали ехидно, что тянуть вечно нельзя, тайное в данном случае точно станет явным, но я тянула, откладывала.
До Нового года.
На который из Праги прилетел с женой Димка. Они, как всегда, привезли с собой веселый хаос и радость, и па торжественно объявил, что праздновать будем на даче.
Всей семьей, что стала большой.
Шумной.
Появился детский смех и лай собак, огромный дубовый стол.
Снеговик, коего первого числа мы лепила с сусликами, а после обкидали снежками вышедшего покурить Лаврова, застигли врасплох и в снежную войну втянули. И, проходя вечером мимо сделанной специально для монстров детской, я затормозила, посмотрела украдкой, как па с Лавровым по ролям читают сказки.
Большие и взрослые первоклассники, отучившиеся целые две четверти, спать без сказок все равно отказываются, вопят возмущенно и на кроватях скачут.
Визжат восторженно, когда Кирилл их подхватывает и кружит.
— Подглядываешь? — Ника подкралась незаметно, спросила коварно и через плечо мне в детскую заглянула, чтобы легко рассмеяться. — Знаешь, месяц жизни с нашими монстрами братца поменял. Он их до этого только по большим праздникам видел и уверял с ужасом, что понятия не имеет с какой стороны к детям подходить. И вон, видишь…
Подходит.
— Из него выйдет отличный отец.
Выйдет.
Через восемь месяцев.
Я промолчала.
Отложила признание до… конца сессии, что терапией для меня и закончилась.
— Почему сейчас? — я спрашиваю настороженно.
Смаргиваю непрошенные слезы.
Замуж по залету я не хочу.
И думать об этом надо было на полчаса раньше, выяснять до штампа и самого главного в жизни вопроса ошарашенной регистраторши. Ибо невеста из меня вышла в уггах, джинсах и старом любимом свитере цвета арманьяка и теплого янтаря, но… я не против.
Так… лучше и брачная церемония пыткой, коей я ее представляла, оттягивая, все это время, не показалась, а на бросаемые изумленные взгляды регистраторши я только бесшабашно улыбнулась и разваливающийся пучок волос, отказываясь стоять смирно и пребывать в волнении, поправила.
— Потому что я тебя люблю, — Кирилл говорит серьезно, поднимается на пару ступеней, чтоб глаза в глаза, и тихо падающий снег оседает на его ресницах, — потому что мне надоело слушать твои потом и потому что слово «сожитель», так любимое нашей дорогой Аллой Ильиничной, мне не нравится, Дашка.
Муж, согласна, звучит лучше.
— И что теперь? — я спрашиваю тихо.
Почти касаясь его холодных губ.
Тянусь, чтобы согреть и согреться. Теряюсь во времени, и окружающий суматошный мир очертания теряет, отступает.
Напоминает громким хлопком двери за спиной.
— Аэропорт, самолет… — Кирилл выдыхает шепотом.
Не отпускает.
И прохожие смотрят странно.
Кто обнимается на крыльце загса в девять утра понедельника?
Без белого платья, голубей и гостей.
— Куда?
Я смеюсь, а он не шутит.
И Авария у Аллы Ильиничны.
Она в курсе.
Все уже в курсе.
Только мне не говорят куда. Молчат таинственно, и, стоя у панорамного окна зала ожиданий, я разглядываю белое поле вдали, кромку темного леса, самолеты, крошечных людей и, выглянувшее из-за сизых туч, яркое солнце.
Оно кажется весенним.
Пусть до весны еще почти два месяца.
— Куда ты так и не скажешь? — я спрашиваю с восторгом.
Упоением.
Чувствуя, что Лавров подходит сзади, обнимает, прижимая к себе, и руки на животе переплетает, закрывает, кладет подбородок мне на макушку. И про ребенка я расскажу ему в еще неизвестном там.