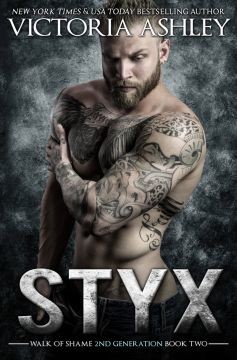— Папа ждёт меня внизу.
Она опускает глаза вниз, будто я не заслуживаю того, чтобы смотреть мне в лицо, говоря всё это. Моё сердце, то сердце, что корило себя за импульсивность и некоторую чёрствость и собиралось извиниться, при необходимости упасть в ноги, лишь бы удержать эту женщину на каких угодно условиях, на её условиях, если иначе будет никак… Это самое сердце разбивается на кусочки. Они разносятся по кровеносным сосудам по всему организму от боли прежде всего за моего ребёнка. За ребёнка, который всё равно наш общий. И её в том числе. По сравнению с этим по поводу себя я почти что ничего не чувствую.
— Ты это собиралась написать в своей записке?
— Я не знаю.
— Что с тобой произошло? Я тебе что-то сделал? — мой голос фактически нейтральный, и, наверное, это не есть хорошо, но я кажусь себе мёртвым или умирающим. Кричать просто нет сил. Я думаю, что задохнусь, если начну. Подавлюсь воздухом, что будет пытаться поступать в лёгкие.
— Нет. Нет, ты ничего мне…
— Что же тогда со мной не так?
— Дело вовсе не в тебе, Дерек.
Поднимая взгляд, она тянется к моей рубашке на левом боку, но я отступаю, потому что не собираюсь позволять ей дотрагиваться до меня, если всё это почти кончено. Мы двое, мы трое, наша семья, отношения, которые были и ещё могут быть воссозданы вновь, и связь, что находят далеко не все, в то время как она отказывается от неё. Эта и все подобные ей фразы стары, как мир. За ними всегда следует «но». Я люблю тебя, но… Я не считаю тебя в чём-либо виновным, но… Я не злюсь, но…
— И ты ждёшь, что я этому поверю?
— В этом мире не всё крутится вокруг тебя, — Лив говорит это так, будто её жизнь даже в течение короткого и продолжительного времени никогда не была связана с моей, а в ней не развивался мой ребёнок, вышедший из её тела два дня назад. Будто всё это мне просто приснилось, показалось, померещилось. Она не выглядит женщиной, любившей меня, любящей сейчас и желающей всё это преодолеть, разобраться, решить. Принять и мою, и не мою помощь.
— Да мне и не это нужно. Твоей жизни было бы достаточно. Чтобы она сосредоточилась на моей и соединилась с ней ради нас обоих. Ради ребёнка, которого ты лишаешь себя. Но ты словно скорее умрёшь.
— Может, я, и правда, умру.
Голос слишком тихий, кажущийся подавленным и звучащий дрожащим, но это ничего не значит. Или я не хочу верить или думать, что это может значить что-то большее, чем просто её переживания за саму себя. Они как раз-таки ясно и различимо отражаются на её лице, но всё остальное… Я очень устал для того, чтобы искать скрытый смысл. Выискивать его где-то в глубине посреди всей этой борьбы. Я хочу уже определённости. Неважно, какой. Просто понять всё и начать к этому привыкать.
— Так живи. Ты, чёрт побери, свободна. Я не хочу больше продолжать. Только когда поймёшь, что внутри пустота, не надо приходить ко мне.
Я выкрикиваю это настолько громко, насколько не считал, что это возможно с моим-то бывшим вечно нежным и доброжелательным с ней даже в минуты гнева голосом. Разбитый и больной, я бросаюсь прочь за дверь. После моего удара ею та сотрясается так, что я удивляюсь, как вокруг меня не складываются стены. Хотя внутри они, кажется, всё-таки рушатся и становятся просто глыбами мусора. Но мой выбор сделан.
***
Неистовый плач разрушает тишину так, как будто её никогда и не существовало. По инерции, потакая свойственным каждому человеку эгоистичным желаниям, я притягиваю к себе вторую подушку и накрываю ею собственную голову, пытаясь хотя бы минимизировать звук или и вовсе заглушить его до самого конца. Мне хочется спать. Засыпать поздно вечером и не просыпаться до самого утра. Не просыпаясь каждый час, а иногда и чаще, потому что даже когда в комнате царит абсолютный покой, мне снится, что это не так, или что всё вот-вот изменится. Я нередко осознаю себя лежащим с открытыми глазами и уставившимся в мрачную темноту, полностью безмолвную и не содержащую ничего, из-за чего я должен был возвращаться в реальность. У меня больше нет сил. Даже при том, что я никогда не остаюсь один на один с ребёнком, а иногда, когда приезжает Лилиан, и вовсе начинаю чувствовать себя лишним, они заканчиваются слишком быстро.
Иногда я хочу, чтобы он исчез. Но не проходит и минуты, как тут же начинаю ненавидеть себя за подобные мысли. Просто моя жизнь теперь другая. Я словно заперт в четырёх стенах. Конечно, я выхожу на улицу и вижу посторонних людей, знаю, что они есть и живут, но каждый раз при мне есть коляска, а я бы хотел хоть раз, хотя бы один чёртов раз выйти без неё и пойти буквально туда, куда глаза глядят. Но в течение дня это невозможно, а к ночи я уже слишком уставший и еле держусь на ногах, чтобы выбираться куда-то дальше заднего двора дома своих родителей. В любом случае даже там нельзя провести слишком много времени. Сейчас не лето и не весна, чтобы иметь возможность сидеть на стуле и на протяжении нескольких часов созерцать окружающий пейзаж и дожидающийся своего времени года бассейн. Я отец только двенадцать, нет, уже почти тринадцать дней, а дома мы находимся и того меньше, по состоянию на уже минувшие сутки всего лишь одну неделю. Но ощущения такие, что это длится далеко не первый месяц. Меня будто выжали, словно бельё после стирки, которое выжимают ещё и ещё, хотя в этом уже давно нет никакой необходимости, потому что и одного раза было более чем достаточно.
— Ну откуда в тебе столько слёз, Алекс? Откуда столько сил? — я спрашиваю это у него, всё-таки подойдя к кроватке и доставая из неё крохотное тельце. Я не понимаю, как оно вообще может вмещать в себя столько плача, чтобы при этом он нисколько не иссякал, а маленький организм не уставал. Я не жду ответа, но для меня всё это просто за гранью. За гранью понимания, да и желания вникать тоже. — Ты же уснул лишь недавно, и ты не можешь быть голодным. Я кормил тебя перед сном. Почему ты не можешь сжалиться надо мной? Пожалуйста, перестань. Я очень тебя прошу. Прошу, успокойся. Я этого не вынесу. Просто не вынесу. Всё же хорошо. Хорошо. Почему ты плачешь? — между этими беспорядочными вопросами я прижимаю его к себе, возвращаясь обратно в кровать и подтягивая одеяло в надежде, что оно поможет заглушить крик, чтобы не разбудить родителей. Они и так делают для меня слишком много всего в плане поддержки и помощи, особенно, конечно, мама, перешедшая фактически на режим удалённой занятости. Но дверь в мою комнату всё равно открывается до того, как я смог что-то сделать с собственным сыном. Потому что я ни черта не могу. Только чувствовать, как он утыкается в мою обнажённую грудь. Не в ту грудь, что ему нужна. Совсем не в ту.
— Я возьму его, Дерек.
— Не нужно. Всё в порядке.
— Я возьму.
— Извини.
Я шепчу это с ощущением стыда и беспомощности во всём теле, когда мама забирает Александра, даёт ему соску и, когда тот принимает её, начинает его слегка качать, чуть двигаясь на одном месте около кроватки. Я перевёз её из дома вместе с некоторыми другими вещами, которые уже успели там обосноваться, включая коляску. Но теперь я не собираюсь ездить туда даже ради того, чтобы просто проверять сохранность жилища. Когда я складывал детали мебели в багажник, то прежде, находясь в детской комнате, чуть не разбил фоторамку, что попалась мне на глаза. В ближайшее время мне лучше быть как можно дальше от своего района. Во избежание худшего, чтобы, сделав какие-то вещи, впоследствии о них не пожалеть. Так же, как я уже думаю иначе о многом. Вижу это в другом свете.
— Ничего.
— Почему тебе всё даётся так легко?
Всего пару минут, и мой сын перестаёт плакать так, что барабанные перепонки, кажется, вот-вот лопнут. Я точно знаю, что со мной он и бы через полчаса продолжал реветь, как резаный. Я пытаюсь быть хорошим отцом, стать им изо всех сил, но из рук всё будто валится. Надежда, что это временно, и дома всё станет лучше, себя не оправдала. Потому что я ни черта не дома. Я там, где меня любят, готовят еду, убирают и готовы делать всё за меня, если будет совсем невмоготу, но это не равноценно тому, как всё должно было быть. И как уже не станет. Ведь то утро в больнице… Оно всё разрушило. Или же это был я. Я не знаю теперь ничего.