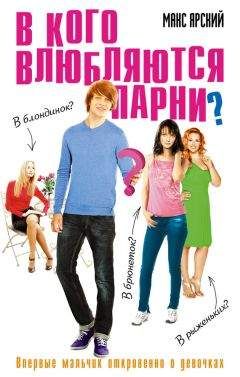с этой лахудрой, значит, интересно… Скажи, ну вот что он в ней нашел, а? Она же тупая овца…
Поставив сумочку на каменную столешницу с мойками, я торопливо ищу свои таблетки и, как назло, никак не могу их нащупать.
– Вылупит свои глаза и смотрит… Такая типа святоша, куда деваться… А видела, в чем эта малохольная приперлась? Это же лютый колхоз… крестьянка в сельском клубе… Она и Горр – ну, это же смешно просто.
– Так они же, вроде как, расстались?
– Угу, вроде как… Как же я ее ненавижу! Как она меня бесит! Она мне как кость в горле. Прямо смотреть не могу на ее тупую рожу, так бы и… Э-э… стой, – Михайловская осекается, потом спрашивает чуть тише: – Это что, она там, что ли? Третьякова?
– Где? Ой, точно! Вот сучка, подслушивает стоит.
– Эй, Третьякова, ты чего тут забыла?
Я никак не реагирую, даже не оборачиваюсь, словно их вообще здесь нет. Продолжаю искать бутылек с таблетками. И наконец он попадается мне в руки.
– Тебя спрашивают, эй! – истерично выкрикивает Михайловская. – Какого хрена ты тут встала и уши греешь, овца?
Я молча отвинчиваю крышку и бровью не веду – пусть себе хоть заорется. И вдруг чувствую, как кто-то резко хватает меня за руку и больно дергает. Бутылек выскальзывает и падает, а таблетки рассыпаются по полу.
– Наша святоша решила закинуться колесами? – с каким-то диковатым смехом говорит Михайловская, а затем, гримасничая, елейный голосом добавляет: – Ой, а таблеточки-то рассыпались… как не повезло-то!
– Пусть с пола теперь их жрет.
– Вы совсем уже?! – негодуя, выкрикиваю я. – Это от сердца!
– Это от сердца! – кривляясь, со смехом передразнивает меня Михайловская. И тут ж шипит в лицо: – Как же я тебя ненавижу! Ты – тупая корова. Что уставилась?
Я приседаю, хочу поднять бутылек в надежде, что там хоть что-то осталось, но Патрушева отпинывает его подальше, попадая еще и мне по пальцам.
– Сволочи! – вырывается у меня от отчаяния. Пытаюсь вскочить на ноги, но Патрушева не дает. Схватив за волосы, давит вниз.
– Чего ты там вякнула? – возмущенно переспрашивает Патрушева. – Щас покажу тебе сволочей!
– Отпусти! – Я пытаюсь вырваться, но она еще сильнее сжимает кулак, стягивая волосы до боли.
Дверь уборной распахивается, кто-то входит, но я даже не вижу, кто. Кричу:
– Помогите!
– Что надо? – рявкает Михайловская. – Пошла отсюда! Потерпишь. Эй, Шумилова! Стой! Только попробуй кому-нибудь вякнуть.
Значит, это Соня…
Я отчаянно машу руками, царапаю, но Патрушева теперь и на плечи давит коленями, всем своим весом, стараясь пригнуть меня еще ниже. Лицом к самому полу. К туфлям Михайловской, которая стоит прямо передо мной.
Надо мной.
– Жри с пола свои таблетки! Ну! Давай!
– Убери руки! Отпусти меня! – задыхаясь, кричу я. И, обезумев от ужаса, одной рукой упираюсь в пол, а второй – цепляюсь за платье Михайловской. Струящийся шелк тут же с треском рвется.
– А-а! – вопит, отскакивая от меня, Михайловская. – Эта сука мне платье порвала! Ты, уродка, ты хоть знаешь, сколько оно стоит?! Почку свою продашь, поняла? Чтоб расплатиться! Блин, как я теперь выйду? Сука! Тебе конец!
Патрушева меня отпускает. Шатаясь, я встаю, но почти сразу Михайловская бросается ко мне как разъяренная кошка. Толкает к стене и тоже хватается за мое платье. Рывками дергает вниз, но оно не поддается. Я хочу ее оттолкнуть, поднимаю руки и тут же обессиленно роняю. Хочу кричать, но ни звука больше не могу вымолвить. Спазм в горле такой сильный, что не могу дышать. Перед глазами стремительно темнеет. Вопли Михайловской становятся далекими и какими-то нереальными. А я сама словно падаю в яму беспросветную, бездонную.
На краю ускользающего сознания чувствую, как кто-то подхватывает меня на руки и быстро уносит. Куда-то бежит.
Слышу издалека крики, гул, шум, а потом всё стихает… На какую-то секунду меня выдергивает из небытия голос Германа. Он звучит так близко, что мне мерещится, будто всё это не по-настоящему. Что он просто в моей голове. Но нет, это действительно Герман. Я ощущаю его крепкие руки, его запах, его тепло. И его страх...
– Лена! Ты меня слышишь? Лена! Леночка!
– Да, – шепчу ему я.
Но он почему-то меня не слышит и кричит с еще бо́льшим отчаянием:
– Лена! Ленка! Только держись! Не смей умирать! Слышишь? Я же люблю тебя!
Бабушка прорывается ко мне с боем. Уже очень поздно, за окном – почти стемнело. Медсестра не хотела ее пускать. Только когда бабушка обессиленно опустилась на кушетку в коридоре и заплакала, разрешила быстренько зайти в мою палату и сразу обратно.
Она сидит на краю кровати и беззвучно плачет. Хочу сказать ей, что всё уже хорошо, но спросонья голова тяжелая, а в горле пересохло и собственный язык кажется каким-то инородным и неповоротливым. Хочу обнять ее, но капельница мешает. Поэтому я лишь легонько глажу бабушку свободной рукой.
Она ловит мою руку, подносит к лицу, прижимается к ней губами.
– Доченька моя… птиченька… ручка такая худенькая… маленькая…
– Не плачь, – шепчу я еле слышно, с трудом разлепляя сухие губы.
– А кто плачет? Никто не плачет, – качает она головой и пытается выдавить улыбку, а у самой глаза слезятся.
Бабушка отворачивается, чтобы незаметно смахнуть слезы. Но не справляется с собой. Слышу, как у нее вырывается судорожный всхлип и перерастает в сдавленные рыдания. Бабушка зажимает рот рукой, но спина ее трясется. А мне это просто разрывает сердце.
– Не плачь, не надо… – сипло прошу я. – Это был обычный приступ, ничего страшного.
Женщина-соседка по палате поднимается со своей кровати, наливает в стакан воды и подносит бабушке.
– Вот, выпейте. Или хотите, я схожу на пост, попрошу успокоительное у девочек?
Бабушка качает головой, но послушно выпивает почти весь стакан. И понемногу успокаивается. Тяжело встает и начинает выкладывать из хозяйственной сумки на тумбочку какие-то свертки, пакеты, коробку сока.
– Леночка, поешь потом, хорошо? А тут яблоки и мандарины…
Я даже думать о еде не могу, но заверяю ее:
– Конечно! Вот только уберут капельницу и поем.
В изножье кровати ставит еще один пакет.
– Там халат, тапочки, полотенце. Я, может, что-то забыла… впопыхах собирала… видишь, даже