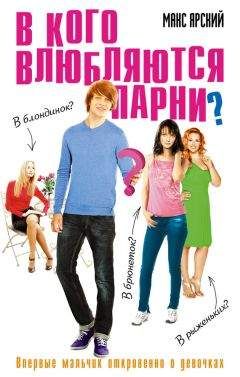и говорили. Но ни о чем таком особенном… А что?
– Да просто… – пожимаю плечами, но, не выдержав, все же признаюсь: – Я думала, он меня навестит, а он…
Олеся Владимировна смотрит на меня с сожалением, чуть склонив голову вбок, и порывисто обнимает.
– Все будет хорошо, – шепчет уверенно.
Когда она уходит, я еще какое-то время сижу во дворе. В палату возвращаться совсем не хочется. Я разглядываю фигуры лебедей, сделанные из покрышек, больных, неспешно гуляющих по тропинкам, санитарку, толкающую перед собой тележку с баками.
А потом внезапно вздрагиваю, заметив на крыльце больницы до боли знакомый силуэт. Герман! Все-таки пришел! Наконец!
Он стоит, опершись локтями о перила, и смотрит на меня. И такое ощущение, что он давно уже стоит и вот так, издалека, смотрит. Но почему-то не подходит.
Только сейчас, когда я приподнимаюсь со скамьи, он тоже спускается с крыльца и идет мне навстречу.
Я радуюсь ему так, что сердце из груди выпрыгивает. Да, мы не мирились с ним, даже не разговаривали после расставания, но все это уже ничего не значит. Он ведь сказал, что любит меня. Теперь я точно знаю, что это было. Я это помню…
Чувствую, как у меня расплывается улыбка. И пусть. Я рада... я так рада его видеть, что мне не только улыбаться, мне плакать от счастья хочется.
Я ускоряю шаг, едва не бегу к нему, а он, наоборот, движется медленно, лениво, как-то нехотя. А потом, когда он уже близко, я замечаю выражение его лица…
Незаметно для себя я тоже сбавляю шаг, а внутри становится холодно и немного страшно. Словно под ребрами копошится неясное предчувствие чего-то плохого.
Герман сам на себя не похож. Он – совершенно чужой и отстраненный, будто мы вообще с ним не знакомы. Он теперь даже не смотрит на меня, а равнодушно оглядывает больничный двор.
– Привет, – я все равно улыбаюсь ему. Хотя, чувствую, сейчас моя улыбка выглядит робкой и жалкой.
– Привет, – здоровается он, так и не взглянув на меня. Кажется, будто он избегает встречаться взглядом.
Затем протягивает мне пакет и… мою сумку.
– Ой, ты ее нашел! Спасибо, я думала, что с концами ее потеряла…
Заглядываю внутрь – телефон тоже там, хоть и разряженный. И пакет такой тяжеленький.
– А здесь что? Шоколад... фрукты всякие, ух ты… спасибо!
– Как ты? – спрашивает Герман. – Что врачи говорят?
– Нормально всё. Просто обморок… ерунда. Нет, правда, ничего страшного… это от стресса… Через два дня уже выпишут и… всё.
Наконец он переводит на меня взгляд, такой тяжелый, что у меня последние слова буквально встают комом, а сердце начинает панически дрожать – и ощущение такое, словно я в чем-то виновата и попалась. Мне нехорошо от его взгляда, но я не понимаю причины… Мысли хаотично мечутся, я не знаю, за что ухватиться, что сказать ему, чтобы он стал прежним…
– А ты придешь завтра? – спрашиваю тихо, с надеждой.
Он отводит глаза опять куда-то вдаль и отвечает не сразу. Сглотнув, произносит сухо, каким-то совсем не своим, глухим голосом:
– Нет. Я завтра улетаю. В Канаду.
Вот теперь я вижу совершенно точно – он избегает смотреть на меня.
– Ладно, Лен, ты выздоравливай скорее. Ну и… прощай.
Он разворачивается и уходит, оставив меня одну посреди двора. Уходит быстро, словно куда-то вдруг заторопился. Несколько секунд я оторопело смотрю ему вслед. А потом бегу за ним следом, пока он еще не успел далеко уйти.
– Герман! – зову его. – Герман! Подожди!
Он останавливается, но даже не оглядывается. И почему-то вдруг кажется таким напряженным. Только когда я подхожу к нему совсем близко, он поворачивается ко мне. Только теперь он еще меньше похож на моего Германа. Его лицо – как каменная маска. Ни жизни в ней, ни чувств.
– Герман, не уходи так! Я же знаю, что ты… ты просто притворяешься таким…
– Каким? – спрашивает он с усмешкой.
– Герман, я все слышала, я все помню. Ты сказал, что любишь меня. И я… – Я набираю полные легкие воздуха и выпаливаю на одном дыхании, как будто прыгаю с огромной высоты вниз. – И я тоже тебя люблю. Если тебе нужно уехать – уезжай. Но я буду тебя ждать. И дождусь. Обещаю! Мы же можем общаться по скайпу или еще как… Можем потом встре…
– Стоп, – прерывает меня он. – Ты о чем? Когда я тебе такое говорил?
– Позавчера, – шепчу я растерянно. – Когда я…
– Тебе показалось. Ничего этого не было.
К лицу приливает кровь, жжет скулы, веки, уши. Я задыхаюсь от стыда, но в то же время чувствую, как внутри закипает злость. Зачем он так со мной? За что?
Герман снова намеревается уйти, но я ловлю его за рукав, разворачиваю к себе.
– Да постой же! Что с тобой такое? Ладно, будем считать, что ты вчера ничего мне не говорил. Пусть мне показалось. Но после всего, что у нас было… Ведь мы же с тобой… – От волнения я не нахожу нужного слова. – Или хочешь сказать, что и отношений у нас тоже не было, да? Ничего не было? Ты же сам говорил, что все серьезно у нас! Ты даже говорил, что не уедешь! Ты... Мы же...
Проклятое волнение! Проклятое косноязычие!
Смотрю в его глаза, зеленые, холодные, насмешливые, а вспоминаю то, что было позавчера. Как он прижимал меня к себе. Как горячо и взволнованно шептал: «Только держись! Не смей умирать! Слышишь? Ленка, я же люблю тебя…». И мысленно молю: «Ну, пожалуйста, Герман, будь прежним! Не поступай так со мной! Не отказывайся…».
Герман окидывает меня равнодушным взглядом:
– Ты чего, Третьякова? Это была всего лишь игра…
За два дня до…
Кто придумал эти дурацкие карточки с именами? Из-за них в банкетном зале начался хаос. Как минимум – броуновское движение. Наши тыкались туда-сюда, искали, кто куда должен сесть. А я потерял Лену из виду.
Мельком лишь видел, что она крутилась где-то у самого входа, потом меня потащила за собой мать Агеевой:
– Герман, а ты что здесь стоишь? Ты вот за этим столиком. Идем.
Там уже сидели ее дочь, Шатохин, Сенкевич и Михайловская. В общем, я даже понять не успел, куда села Лена.