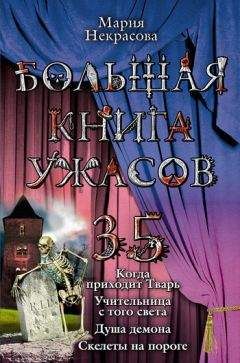Слава иногда заезжал ко мне в гости по выходным, и мама кормила его домашними пирогами до отвала, как кормила всех людей, которые ненароком попадали в поле ее бурной кулинарной деятельности. А потом мы забирались с ногами на кровать, садились по-турецки, и я пела ему все песни, которые знала, а он меня искренне хвалил, хотя голос у меня был несильный и бренчала я плохо — на трех блатных.
Ему больше нравились песни тихие и меланхоличные. Он рассказывал, что папа играет на семиструнной, что в юности он работал в Театре на Таганке осветителем, застал Высоцкого, и на гитаре в то время играли в театре все, кому не лень. Он говорил, что и сам хочет научиться играть, да только слуха нет; что у папы песни хорошие и пишет он их всегда только для мамы.
Слава оброс словно дикобраз, теперь его светлая шевелюра обрамляла узкое лицо так, как спелые парашютики одуванчика обрамляют зеленый стебель. Я немножечко стригла, и мы придумали ему новую прическу. Славины волосы были густыми и мягкими, и причесывать их было приятно, а он смешно щурился (кот, который упал в сметану) и в конце процедуры ни с того ни с сего объявил: «Люблю, когда меня гладят по голове». Я, понятное дело, смутилась и порозовела.
Мне казалось, что я ему нравлюсь. Даже не казалось, я отчего-то была в этом уверена. А еще было ощущение белой бабочки на ладони — словно она присела здесь совсем случайно, но пригрелась и осталась насовсем. Но все-таки было немного страшно спугнуть эту хрупкую бабочку.
И я впервые в жизни попыталась написать песню.
Я тогда еще не знала, что через десять-двенадцать лет сочинение песен превратится для меня в профессию. Песня получилась совсем детская и плохая: со стандартным мотивчиком, с набором полновесных стихотворных клише, но тогда, в девятнадцать лет, она мне понравилась, и по вечерам я тихонько напевала, сидя на кухне в ожидании чая:
Могла рассмеяться в глаза тебе
И вслед поглядеть не скорбя.
Но время и сердце — предатели,
Теперь я пою для тебя.
Слова о свободе растратила,
Перчатку бросая судьбе,
Но время и сердце — предатели,
Теперь я пою о тебе.
В той песне и вызов и жалоба,
Доверю ей все, не тая,
Ты только ответь мне, пожалуйста,
Нужна тебе песня моя?
Через пару недель это мое произведение надоело маме смертельно, она начала издеваться надо мной.
— Поздравляю, Надежда Александровна, да ты, кажется, влюбилась! — говорила она ехидно, как только я с меланхоличным видом бралась за гитару. Я огрызалась, но совсем беззлобно, и царило, царило во мне чувство первого тайного торжества.
Положительно это была счастливая зима, и было ощущение начала чуда, но за зимой, как правило, что-то следует. И наступило вслед за той зимой совсем иное время года.
Оно пришло в город с сильным опережением графика и бесследно смыло остатки и без того невеликих московских снегов уже к первым дням марта месяца. В воздухе горько запахло мимозой, которую продавали у любой станции метро усталые, плохо одетые бабушки; все московские дворовые псы, за зиму оголодавшие, запаршивевшие, обозлились и занервничали; обратная сторона города сделалась от этого почти непроходимой. И казалось, будто сейчас начнется что-то, начнется обязательно, и расставит по местам все, что на протяжении столь долгого времени оставалось неправильно расположенным.
А в театр мы все-таки пошли.
Перед Восьмым марта, должно быть, по случаю праздника, нам таки выдали то, что задолжали за долгие зимние месяцы. Мы стояли в очереди, которая тянулась к дверям бухгалтерии наискосок, через низкий темный коридор третьего этажа, наши заводские алкоголики шумели и в предвкушении приятного вечера потирали свои плохо отмытые рабочие руки, а Ирина Петровна, учетчица, пронзительно кричала, высунув голову из квадратного окошка: «В предбанничек больше двух не заходить!», и ее неприятный голос несся над нашими головами и уходил на центральную лестницу, где звучал еще некоторое время, а потом рассеивался бесследно. Слава говорил:
— Слушай, кто-то обещал сходить со мной в театр еще в прошлом году!
— Обещанного, между прочим, три года ждут.
— Ладно, кроме шуток, я сегодня случайно афишу видел. На Таганке — «Мастер и Маргарита». Давно хотел посмотреть. Присоединяйся.
— А физика?
— Да ну его, этого физика. Я все равно ни рожна не понимаю.
— Взаимно. Ладно, пошли.
— Заметано. Я за тобой в пять зайду, после звонка.
Когда мы приехали на Таганку, оказалось, что спектакль отменили. Умер один замечательный актер — за границей, так и не дождавшись сложной операции на сердце, и как раз сегодня был день гражданской панихиды. Таганка надела на себя недельный траур, и до пятнадцатого никто не работал.
Но в институт мы не вернулись. Во-первых, физику оба терпеть не могли, а во-вторых, все равно уже безнадежно опоздали к началу занятий. И мы снова пошли бродить по московским улицам.
Шли просто так, не задумываясь, куда мы, собственно говоря, придем. Настроение у нас немного испортилось, погода была отвратительная, со всеми мартовскими прелестями: с пронзительным ледяным ветром, с мелким колючим снегом. Наши носы и щеки обветрились и покраснели, наши пальцы гнулись с трудом, даже несмотря на перчатки. Вдобавок у меня насквозь промокли ноги, и я начинала уже чувствовать себя полутрупом.
— Знаешь, — сказал мне Слава после сорока минут прогулки, — поехали-ка на Пушкинскую. Мы же собрались сходить в театр, вот и пойдем. Какая нам, в сущности, разница, что смотреть? А там этих театров, извини за выражение, как собак нерезаных. Хоть один да работает. А то мне уже неудобно — я тебя пригласил, и все никак.
К тому времени я настолько окоченела, что мне хотелось только одного — согреться. Я уже подумывала о том, чтобы отправиться домой; при всей моей глубокой симпатии к другу находиться на улице дольше я была не в состоянии. И поэтому его идея показалась мне просто отличной.
— Да, ты здорово придумал! — сказала я ему. — Еще часочек таких гуляний, и мы оба заработаем воспаление легких.
Мы поехали на Пушкинскую. Но спектаклей не было: ни в самом Театре Пушкина, ни у Дорониной.
Мы шли по Тверскому бульвару, нахохлившись от холода, и уже почти не говорили. Было без пятнадцати семь вечера.
— Ладно, — сказал Слава, — видимо, не судьба. Мы сейчас дойдем до Театра Маяковского, и если там тоже будет закрыто, тогда до Арбатской — и по домам. Тебе там до вокзала по прямой. Я тогда сажаю тебя в электричку и сам доеду с тобой до Новогиреева. Идет?
— Ага! — отозвалась я коротко, мне даже рот раскрыть было холодно.
Но, как это ни странно, Маяковка все-таки работала. (О том, что она работала, я жалела потом всю свою жизнь.) Афиша на дверях была устрашающая: «Кто боится Рея Брэдбери?», но нам было уже до такой степени все равно, что билеты мы купили не задумываясь. Билеты были хорошие — в самую середину партера.
Это оказался замечательный спектакль, сентиментальная комедия о странно сложившейся любви, всего с двумя актерами. Первые три действия, до антракта, мы со Славой все гадали, при чем же здесь, собственно говоря, Рей Брэдбери, а в антракте выяснили, что прочли второпях не ту афишу и смотрим нечто совсем иное. Но все, что мы случайно увидели в тот вечер, было красиво по-настоящему.
Когда пьеса закончилась, мы еще долго хлопали, впрочем, как и все остальные зрители, и всё вызывали актеров на сцену. Уходить нам не хотелось.