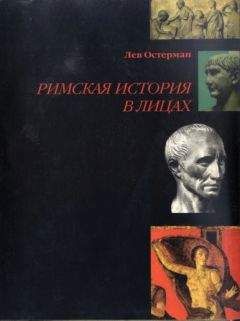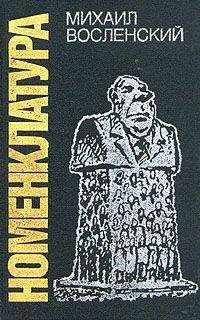Она же сказала, что, будучи матерью, она вместе с ним претерпела несправедливость его изгнания из города, но она видит, что римляне уже много претерпели от него, и достаточной карой он их покарал, так как их область, и притом столь значительная, опустошена... «Ты же не исцеляй зла злом неисцелимым... Окажи милость, сын мой, и мне и отчизне, взывающей к тебе». Так сказала она. Марций же не соглашался называть отчизной государство, изгнавшее его, но сказал, что так должно называть принявшее его; ибо ничто не мило, если оно несправедливо; не может быть чувства вражды к тем, кто делает добро; он предложил ей посмотреть на присутствующих, давших ему слово верности и взявших его от него, сделавших его своим гражданином, назначивших полководцем и поручивших ему свои дела. Он перечислил те почести, которых был удостоен, и те клятвы, которыми он им поклялся, и предложил матери считать общими с ним врагов и друзей.
Когда он это еще говорил, она, исполнившись негодования и подняв руки к небу, призывала свидетелями родовых богов... «После этого, — сказала она, — ни одна другая мать, получив отказ от сына, не придет к необходимости пасть к его ногам; я же иду и на это: я припаду к твоим коленам». Говоря это, она бросилась перед ним на землю. Он же, заплакав, подбежал к ней, поднял ее и взволнованным голосом произнес: «Ты победила, о мать, но победой, от которой ты потеряешь сына». Сказав это, он увел войско, чтобы дать отчет вольскам и примирить оба народа: была некоторая надежда, что даже при таких условиях он убедит вольсков. Побит же он был камнями ввиду зависти со стороны полководца вольсков Аттия». (Аппиан. Римская История. II, 5, 2-5)
Эта сентиментальная история отразила в себе присущее римлянам глубокое уважение к матери семейства.
Наконец, еще один, совсем небольшой, легендарный эпизод, тем не менее, очень важный в сознании римлян. Дело происходило, согласно Титу Ливию, в 458 году до Р.Х. Эквы и сабиняне потеснили римлян и окружили их войско. Положение было критическим. Сенат решил назначить диктатором Луция Квинкция Цинцинната. Это был заслуженный воин, но человек скромного достатка и в тот момент не у дел. Вот как описывает историк момент его приглашения в Рим для спасения отечества:
«Об этом полезно послушать тем, кто уважает в человеке только богатство и полагает, что честь и доблесть ничего не стоят, если они не принесут ему несметных сокровищ (напомню: Ливий пишет это в конце I века до Р.Х. — Л.О.). Последняя надежда римского государства, Луций Квинкций владел за Тибром, против того самого места, где теперь находится верфь, четырьмя югерами земли (1 га — Л.О), называемой с тех пор Квинкциевым лугом. Копал ли он канаву или пахал — мы не знаем. Точно известно только, что послы застали его за обработкой земли и после обмена приветствиями в ответ на их просьбу нарядиться в тогу для того, чтоб выслушать послание сената, если он дорожит благополучием Рима и своим собственным, Квинкций удивленно спросил, что стряслось, и велел жене Рацилии скорей принести ему тогу из их лачуги. Когда он, отерши пыль и пот, оделся и вышел к послам, те радостно приветствовали его как диктатора и, описав, в каком страхе пребывают воины, призвали в Рим». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, III, 26)
Явившись в город, диктатор собирает новое войско и ведет его на выручку окруженным. Ночное сражение... Осаждающие, оказавшиеся между двух огней, разгромлены. Цинциннат с трофеями возвращается в Рим и... через шестнадцать дней после своего назначения слагает диктаторские полномочия, чтобы вернуться на свое поле.
Цинциннат — персонаж реальный, хотя история его приглашения и молниеносной диктатуры, возможно, вымышленная. Но образ простого римлянина, встающего в критическую минуту во главе государства, едва отерши пот со лба и облачившись в тогу, в течение столетий будет в глазах потомков служить эталоном личного достоинства, мужества и преданности Риму.
Этим я пока ограничусь в цитировании военных эпизодов первого столетия существования Республики. Так или иначе, но римляне отбились. Они ничего не потеряли и практически ничего не приобрели, если не считать военного опыта и спаянности своего народа. Впрочем, эту спаянность они обрели далеко не сразу, а лишь пройдя через целый ряд внутриполитических коллизий. О них сейчас и пойдет речь.
Одним из непременных атрибутов ранних этапов развития едва ли не любого народа являлось долговое рабство. Как только общественное развитие поднималось над уровнем стаи, где безраздельно господствует воля вожака, как только люди получали минимальную самостоятельность в обеспечении своих жизненных потребностей, так сразу им требовалась возможность займа. Без этого нельзя было справиться с неизбежными временными трудностями. Но как обеспечить возврат долга, если должник, на беду, лишится всего имущества? Ответ очевиден: ему придется расплатиться единственным, что у него остается — своим трудом. Теперь уже не на себя, а на заимодавца. Если же тому его труд не нужен, то на другого, кто оплатит долг, то есть купит должника. Несостоятельный должник становится рабом или продает в рабство своих детей. Негуманно, но логично! До гуманизма наши далекие предки еще не поднялись, зато логики им было не занимать.
Как мы помним, плебеям, людям, в большинстве своем пришлым и неимущим, приходилось одалживаться у римских патрициев землей и тягловым скотом. И те, естественно, сразу же оградили свои интересы законом о долговом рабстве. Для тех, кто готов был в поте лица трудиться, беда вроде и невелика. Да начались непрерывные войны. Плебеям дарована была честь защищать Рим. Но жалованья солдатам еще не положено, трофеев тоже пока нет — дай бог отбиться (если и перепадает кое-какая добыча, то только патрициям). Между тем хозяйство разваливается, противник сжигает постройки и посевы, угоняет скот. Нет урожая — нечем расплатиться с кредиторами. А закон неумолим!
Вот, быть может, и вымышленное, но вполне реалистичное описание эпизода, послужившего, если верить Титу Ливию, толчком к восстанию плебеев, с которого началась их длительная борьба с патрициями за свою свободу:
«Общее недовольство, и без того усиливавшееся, разожжено было зрелищем бедствий одного человека. Старик, весь в рубцах, отмеченный знаками бесчисленных бед, прибежал на форум. Покрыта грязью была его одежда, еще ужасней выглядело тело, истощенное, бледное и худое, а лицу его отросшая борода и космы придавали дикий вид. Но узнали его и в таком безобразном облике и говорили, что он командовал центурией, и, сострадая ему, наперебой восхваляли его военные подвиги; сам же он в свидетельство своих доблестей показывал, открыв грудь, шрамы, полученные в разных сражениях. Спросили его, отчего такой вид, отчего такой срам, и когда вокруг него собралась толпа не меньше, чем на сходке, ответил он, что воевал на сабинской войне, и поле его было опустошено врагами, и не только урожай у него пропал, но и дом сгорел, и добро разграблено, и скот угнан, а в недобрый час потребовали от него налог, и вот сделался он должником. Долг, возросший от процентов, сначала лишил его отцова и дедова поля, потом остального имущества и, наконец, подобно заразе, въелся в само его тело: не просто в рабство увел его заимодавец, но в колодки, в застенок. И он показал свою спину, изуродованную следами недавних побоев. Это зрелище, эта речь вызвали громкий крик. Волнению уже мало места на форуме, оно разливается по всему городу: должники в оковах и без оков вырываются отовсюду к народу взывают к защите квиритов. Повсюду являются добровольные товарищи мятежников; и уже улицы заполнены толпами людей, с криком бегущих на форум». (Там же. Т. 1, II, 23)
Долго копившаяся обида плебеев взрывается бунтом. Поведение толпы на площади становится все более угрожающим:
«Не столько прося уже, сколько грозя, они требуют, чтобы консулы созывали сенат, окружают курию, хотят сами быть свидетелями и распорядителями обсуждения государственных дел... Уже близко было к тому, что власть консулов не сдержит людского гнева, когда и те, кто не знал, что опасней — идти или медлить, все-таки явились в сенат. Однако и в заполнившейся наконец курии согласия не было — ни между отцами, ни даже между самими консулами. Аппий, крутой нравом, предлагал употребить консульскую власть: схватить одного-другого, и остальные успокоятся. Сервилий же, склонявшийся к более мягким мерам, полагал, что возбужденные умы лучше переубедить, чем переломить, — оно и безопасней, и легче.
Среди таких бедствий надвигается опасность еще страшней: в Рим прискакали латинские всадники с грозной вестью, что на город движется готовое к бою войско вольсков. Государство настолько раскололось раздором надвое, что известие это было совсем по-разному принято сенаторами и плебеями. Простой народ ликовал. Боги мстят за своеволие сенаторов, говорили плебеи; они призывали друг друга не записываться в войско... Сенат же, приунывший и напуганный двойной опасностью — и от граждан и от врагов, стал просить консула Сервилия, чей нрав был приятней народу, выручить государство в столь грозных обстоятельствах. Тогда консул, распустив сенат, выступил на сходке. Там он заявил, что сенаторы полны забот о простом народе, однако плебеи — лишь часть гражданского целого, хотя и большая, поэтому думам о них помешала тревога об общем деле... Доверие к своей речи укрепил он указом, чтобы никто не держал римского гражданина в оковах или в неволе, лишая его возможности записаться в консульское войско, и чтобы никто, пока воин в лагере, не забирал и не отчуждал его имущества, и не задерживал бы его детей и внуков. После такого указа и собравшиеся здесь должники спешат тотчас записаться в войско, и со всего города сбегаются люди на форум, вырвавшись из-под власти заимодавцев, и торопятся принести присягу. Из них составился большой отряд, и никакой другой не выказал столько доблести и усердия в войне с вольсками». (Там же. 23, 24)