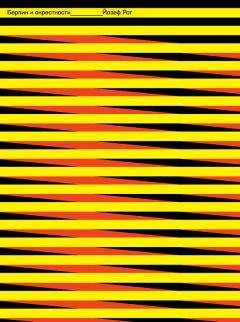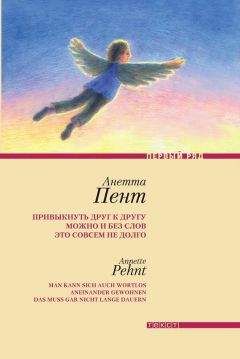Ознакомительная версия.
Дер Драхе, 24.03.1925
Задолго до того, как мысль о поездке в новую Россию вообще стала возможной, к нам пожаловала Россия старая. Эмигранты принесли с собой неистовый дух своей родины, запах покинутости, кровопролитий, бедности и невероятных судеб, какие встречаешь разве что в романах. Пережитое ими, вся боль их изгнания, их отторгнутости от тепла родных очагов, их странничества по миру без цели и смысла, их жизни невпопад с привычным и устоявшимся, когда всякий выход за рамки закона оправдывается расхожим и стародавним литературным штампом о «загадочной русской душе», – все это как нельзя лучше подходило к банальным европейским представлениям о русских. Европа знала казаков из варьете, оперную, если не опереточную бутафорию сельских свадеб на театральных подмостках, знала русских певцов и русские балалайки. Зато она так никогда и не узнала (не узнала и сейчас, когда Россия пришла к нам), до какой степени оболган французскими романистами (самыми консервативными в мире) и сентиментальными почитателями Достоевского русский человек, низведенный ими до почти карикатурного гибрида набожности и зверства, алкоголизма и философствования, самоварного уюта и азиатчины. А во что они превратили русскую женщину! Это же просто человекоживотное, наделенное тягой к покаянию и страстью к обману, смесь мотовки и бунтарки, литературной дамочки и бомбистки. И чем дольше длилось их изгнание, тем больше сближались русские эмигранты с нашими о них представлениями. Они делали нам одолжение, приспосабливаясь к нашим клише. Возможно, это ощущение порученной им «роли» как-то смягчало их горький удел. В ореоле художественного образа эту боль легче было сносить. У русского князя в качестве шофера парижского такси только один маршрут – прямиком в литературу. Пусть судьба его ужасна. Но она вполне пригодна для беллетристики.
Мартин Бадеков. Ла Яна. 1929 г.
Анонимно-безвестное существование эмигрантов становилось, так сказать, продуктом общественного интереса. Особенно когда оно принялось само себя выставлять напоказ. Эмигранты сотнями основывали театры, певческие хоры, танцевальные ансамбли и капеллы балалаечников. Года два все это казалось новым, потрясающим, подлинным. Потом стало привычным и скучным. Они утратили связь с родной землей. Они все больше удалялись от России – а еще больше Россия удалялась от них. Европа уже знала Мейерхольда – а они все еще держались за Станиславского. Их «синие птицы» начали петь по-немецки, по-французски, по-английски. В конце концов они улетали в Америку, чтобы окончательно растерять там оперение.
Эмигранты считали себя единственными представителями подлинной России. Все сколько-нибудь значительное, что нарождалось и росло в России после революции, они отвергали как «нерусское», «еврейское», «интернациональное». Европа уже давно привыкла видеть в Ленине главу Российского государства. Для эмигрантов таковым все еще оставался Николай Второй. Они хранили трогательную верность прошлому наперекор очевидному ходу истории. И этим сами снижали трагизм своего положения.
Но ведь жить как-то нужно! А коли так – они на парижских ипподромах родным казачьим галопом гарцевали на чужекровных лошадях, обвесившись кривыми турецкими саблями, купленными на блошином рынке в Клиньянкуре, прогуливались по Монмартру, щеголяя пустыми патронташами и тупыми кинжалами, водружали на головы огромные медвежьи папахи из натуральной кошки и, даже будучи уроженцами мирной Волыни, изображали свирепых донских атаманов, стоя швейцарами при дверях роскошных заведений. Некоторые с помощью не подлежащих проверке нансеновских паспортов сами произвели себя в князья. Только кому какое дело до титулов! Все они с одинаковой ловкостью научились выщипывать из балалаечных струн щемящие аккорды, носить красные сафьяновые сапоги с серебряными шпорами и кружиться на одном каблуке вприсядку. В одном парижском варьете я видел, как некая русская княгиня изображала русскую свадьбу. Сама она была выряжена невестой, переодетые боярами ночные вышибалы с Пляс Пигаль стояли шпалерами, как цветы в горшках, на заднем плане мерцал картонный собор, откуда вышел поп с бородой из ваты, стеклянные самоцветы блистали в лучах русского солнышка из софитов, а капелла скрипачей приглушенно струила трогательную мелодию песни о Волге-матушке прямо в сердца публики. Другие княгини работали официантками в русских заведениях, в передничках, с блокнотиком на цепочке черненого серебра, с гордо вскинутой головкой в знак несгибаемой стойкости и неизбывного трагизма эмигрантской судьбины. Другие, сломленные этим трагизмом, понуро и тихо сидели на скамейках Тюильри и Люксембургского сада, венского Пратера и берлинского Тиргартена, по берегам Дуная в Будапеште и в кофейнях Константинополя. В каждой стране они заводили связи с местными реакционерами. Они сидели и горевали по своим утратам: погибшим сыновьям и дочерям, по сгинувшим женам – но и по золотым карманным часам, подарку Александра Третьего. Многие покинули Россию, потому что «не могли больше видеть нищету и страдания родины». Я знаю многих русских евреев, которых еще несколько лет назад «экспроприировали» Деникин и Петлюра, но которым сегодня больше всех на свете ненавистен Троцкий, хотя он им ничего не сделал. Они мечтали бы снова по поддельной метрике просочиться за черту оседлости и вести унизительное, полулегальное существование людей второго сорта в крупных российских городах.
В небольшом отеле в Латинском квартале, где я останавливался, жил один известный русский князь – вместе с отцом, женой, детьми и «бонной». Старик-отец – тот еще был из «настоящих». Он варил себе супчик на спиртовке, и, хотя я прекрасно знал, что он светоч антисемитизма и махровый крепостник, мучивший своих крестьян, было что-то трогательное в его облике, когда он промозглыми осенними вечерами тащился к себе домой, давно уже символ, не человек, иссохший лист, сорванный ветрами истории с дерева жизни. Зато его сынок, взращенный и воспитанный уже на чужбине, элегантно одевавшийся у парижских портных, живший на содержании у более богатых великокняжеских семейств, – тот был совсем другая птица! В телефонной гостиной он вел долгие переговоры с бывшими лейб-гвардейцами, всем Романовым, подлинным и самозванным, слал верноподданнические поздравительные адреса ко дню рождения, а дамам в отеле подсовывал в ячейки для ключей пошленькие, на розовой бумаге, любовные послания. На царистские монархические конгрессы он отправлялся в автомобиле и жил припеваючи, этаким маленьким эмигрировавшим божком во французских райских кущах. К нему приходили попы, гадалки, предсказатели, теософы – все, кто провидел будущее России, пророчил возвращение Екатерины Великой и троек, медвежьей охоты и каторги, Распутина и крепостного права… Потерянные люди. Они потеряли свою русскость и свои дворянские привилегии. А поскольку ничего, кроме русскости и знатного происхождения, у них за душой не было, они потеряли все. Они медленно выпадали из собственного трагизма. Герои великой трагедии опускались на глазах. Кровавая, железная поступь истории вершилась неумолимо. Наши глаза уставали созерцать бедствия, которые сами себя спешили продешевить. Мы стояли над обломками, которые сами не осознавали масштабов постигшей их катастрофы, мы знали о них больше, чем сами они в состоянии были нам поведать, а коли так – мы, плечом к плечу и в ногу со временем, перешагнули через этих потерянных и потерявшихся, перешагнули бестрепетно, хотя и не бесскорбно…
Франкфуртер Цайтунг, 14.09.1926
Каждое утро господин старший учитель выходит из дома на две минуты позже, чем надо. Под мышкой у него стопка тетрадей. Из самой верхней выглядывает серая промокашка с красными чернильными разводами. На белой тетрадной обложке фиолетовыми буквами выведено: «Фридрих Кульпе, одиннадцатый класс».
Во рту у старшего учителя все еще вкус утреннего кофе, а думает он о Фридрихе Кульпе, который не понимает, что такое причастный оборот, – беднягу придется оставить на второй год.
Тем временем из-за угла выезжает 162-й трамвай, а господину старшему учителю до остановки еще далековато. Трамвай останавливается, а старший учитель думает: «Ничего, у меня еще минута…»
Но как назло именно на этой остановке ни один пассажир не сходит, и трамвай трогается. Господин старший учитель припускает было рысью, прижимая тетради к груди, хотя трамвай ему, ясное дело, нипочем не догнать. Дожидаясь следующего, он уже не думает ни о причастных оборотах, ни о Фридрихе Кульпе. А думает он о том, что завтра надо бы встать на две минуты раньше.
– Глупость какая! – досадливо говорит себе старший учитель и покупает у уличного торговца газету.
На следующее утро господин старший учитель выходит из дома на две минуты позже. Во рту вкус утреннего кофе, под мышкой стопка тетрадей, на 162-й он опять не успевает, думает «Глупость какая!» и покупает себе утреннюю газету у уличного торговца.
Ознакомительная версия.