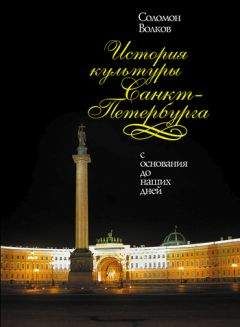Активное вторжение классических произведений «петербургского канона» в ткань романа Битова автором беспрерывно подчеркивалось и обыгрывалось: эпиграфы, цитаты (в том числе и скрытые), заимствования и аллюзии из Пушкина (особенно его «Медного всадника»), Лермонтова, Достоевского, Зощенко сталкивались, дробились, размножались, воссоздавая уникальный внутренний мир потомственного ленинградского интеллектуала второй половины XX века.
Для Битова очень важно было, что его герой – аристократ, князь, но, быть может, еще важнее, что и отец, и дед Одоевцева – профессиональные филологи. Это дало автору возможность не только провести многочисленные параллели между историей семьи Одоевцевых и историей русской литературы XX века, но и нанизать на статичный сюжетный стержень романа (строго говоря, «Пушкинский дом» можно назвать бессюжетным или, точнее, «транссюжетным» произведением) целую гирлянду блистательных эссе – законченных, полузаконченных и едва набросанных – о великих русских писателях.
«Пушкинскому дому» выпала тяжелая, одновременно типичная и нетипичная судьба или, как выразился сам Битов, «странная жизнь». Автор «наращивал» свой роман рывками и закончил его осенью 1970 года. Битов вспоминал, как после бессонной ночи, проведенной в лихорадочном дописывании последних страниц «Пушкинского дома», он вышел на Невский проспект, направляясь с рукописью романа в издательство, и встретил Бродского («который тогда был не только не нобелевский лауреат, но и такая же шпана, как все мы», – добавил Битов), спросившего: «Ты куда?» – «Да вот роман закончил, «Пушкинский дом» называется, несу в издательство». – «А я сегодня получил открытку от Набокова по поводу моего «Горбунова и Горчакова»». – «И что ж Набоков написал?» – «Что в русской поэзии чрезвычайно редко встречается подобный размер».
И, похваставшись друг перед другом таким манером, Бродский и Битов разошлись. Надежды Битова, однако, не оправдались: издательство тогда отказалось напечатать его роман. Началось существование «Пушкинского дома» в качестве «самиздатского» текста, ходившего по рукам в кругах русской элиты.
Одновременно Битов пытался протащить сквозь цензурные рогатки если не весь роман, то хотя бы его часть. И действительно, всякими правдами и неправдами ему удалось, соглашаясь на жестокую идеологическую и стилистическую правку, распечатать под разными названиями серию отрывков из «Пушкинского дома», составивших около трети его объема. Это был унизительный и тяжелый опыт, ибо узловые моменты романа, в частности кульминационная сцена гомерического пьянства героя, предшествующая его гротескной дуэли со своим антиподом на старинных (пушкинских!) пистолетах, к массовому читателю так и не прорвались и символический аспект «Пушкинского дома» как ритуального отпевания обобщенного типа русского интеллектуала для этого читателя остался скрытым.
Прождав еще ряд лет и придя к выводу о губительности дальнейших компромиссов, Битов пошел на смелый для члена официального Союза писателей «с положением», каковым он являлся, шаг: опубликовал в 1978 году «Пушкинский дом» в американском славистском издательстве «Ардис», печатавшем по-русски также произведения Набокова и Бродского. Позднее Битов вспоминал свои эмоции при виде попавшего к нему в руки окольными путями «тамиздатского» экземпляра его многострадального романа: «Изумление, потом страх, потом надежда – «авось обойдется»».
Открытым репрессиям Битова тогда не подвергли, но «Пушкинский дом» оставался в «проскрипционных списках» советской цензуры до 1987 года, когда он, через 17 лет после своего завершения, появился наконец в московском журнале «Новый мир», став одной из литературных сенсаций эпохи «гласности».
За годы своего существования в подполье «Пушкинский дом» оброс всякого рода авторскими комментариями, примечаниями и литературными эссе, принадлежащими перу не то Битова, не то его героя-филолога. В этой своей постмодернистской структурной разомкнутости произведение Битова обрело черты сходства с величайшим из «петербургских текстов» русской литературы второй половины XX века – ахматовской «Поэмой без героя», которую Битов, кстати, поначалу (принадлежа к более «почвенной» литературной группировке Горного института) не понял и не принял. После того как Ахматова дала Битову прочесть один из многих машинописных вариантов «Поэмы без героя», он, возвращая ей текст, начал нерешительно бормотать, что, дескать, «не мастер на комплименты». На что Ахматова, сразу оценившая неловкую ситуацию, отреагировала решительно: «Что же это, вы – не мастер?!» – и захлопнула перед носом сконфуженного Битова дверь. Возвышенного общения не получилось…
* * *
Хитроумные манипуляции со структурой «Пушкинского дома», превращавшие роман, в сущности, в некий род «открытого» текста, а также эксперименты автора в описании времени и пространства и виртуозное использование им техники внутреннего монолога и «потока сознания» поставили этот опус Битова в ряд веховых модернистских прозаических произведений о Петербурге, включающий в себя такие шедевры, как «Петербург» Белого, романы Вагинова, «Случаи» Хармса, повести Зощенко и «Speak, Memory» Набокова.
Горбовский сравнил как-то завораживающий, почти гипнотический ритм битовской прозы с «движением одинокого пловца среди волн житейской пустыни, когда пловец вот-вот захлебнется, но вновь и вновь голова его маячит над поверхностью; одиночество для таких пловцов – не трагедия, не печаль вовсе, а почти мировоззрение, даже религия…». Это переживание «запредельного одиночества» у Битова одним из своих источников имело, несомненно, запредельное (или осознаваемое как таковое) месторасположение и позицию самого Петербурга относительно России.
Битов, чьи самые первые детские воспоминания были связаны с осадой Ленинграда («бомбежки, трупы кругом – это было не страшно, а быть голодным – это было страшно»), считал, что его, как и многих других, помогли воспитать сами стены города: «Мы читали Ленинград как книгу». Сверстник Битова, Виктор Соснора, автор трагических, резко контрастных сюрреалистских стихов и великолепной исторической прозы о Петербурге, подтверждал это ощущение: «Петербургские декорации создают особый психический климат, который в основном и формирует тебя как писателя. Талант и прочее – это уже, честно говоря, мелочи».
В «Пушкинском доме» Битов, с поэтическим размахом и аналитической тщательностью описав и оплакав «сдачу и гибель» (по выражению Аркадия Белинкова) ленинградского интеллигента перед лицом враждебной ему официальной культурной машины, в каком-то смысле подвел черту под судьбами своего поколения. Страшные перипетии глухих, темных ленинградских биографий стали главной темой творчества сверстников и друзей Битова по «светлому подвалу» (как Битов окрестил сумеречную зону их общего ненадежного существования), среди которых выделялись оригинальный писатель с сильным абсурдистским оттенком Виктор Голявкин и тонкий лирический прозаик Валерий Попов, в произведениях которых неожиданно соседствовали натурализм и гротеск, часто освещаемые печальным юмором. Как комментировал Александр Володин, сам в эти годы начавший свои меланхолические автобиографические «Записки нетрезвого человека», «жизнь, самые тайные пороки и болезни ее не могут остаться не отраженными в искусстве. Как двойные звезды, жизнь и искусство соединены невидимой тканью. Если эту ткань попытаться растянуть, рано или поздно она все равно сократится, и искусство нанесет свой запоздалый и потому особенно жестокий удар».
Приблизительно в тот же период в интеллектуальных кругах начала циркулировать (посредством приватных чтений вслух, «самиздата», а также редких публикаций) мемуарная проза ленинградских авторов старшего поколения – Евгения Шварца, Михаила Слонимского и Лидии Гинзбург, изобретшей для этого жанра новый термин – «промежуточная литература». Согласно Битову, «это были общие усилия создать петербургскую прозу для новых времен: опирающуюся на факт, но в то же время художественную, психологичную, странную. Это рождал город. И что важно, все это не закупалось тут же на корню властями, как то случалось в Москве».
Даже тяжко придавленная «железным занавесом» издавна и органически присущая Петербургу тяга к культурному общению с Западом (которую Мандельштам назвал тоской по мировой культуре) продолжала здесь теплиться. Битов рассказывал, как в начале 60-х годов, когда пронесся слух, что вскоре впервые издадут Фолкнера по-русски, он с друзьями в ожидании книги каждый день обходил книжные лавки города. Американская проза XX века ценилась в Ленинграде особенно высоко, но предметом горячих обсуждений и споров становилась любая интересная иностранная книга, доходившая до городской интеллигенции. То же происходило с американскими и европейскими кинофильмами, а также с довольно редкими – и потому безумно дорогими – западными книгами по искусству, которые можно было достать главным образом на специальном ленинградском книжном «черном рынке».