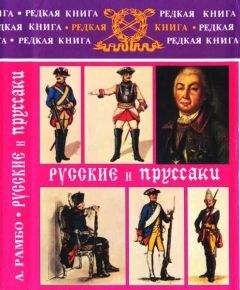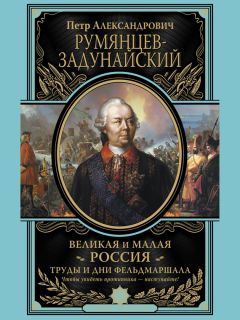Туман, дым битвы и горящих деревень не позволяли смотревшим видеть происходившие атаки. «Уже в десяти шагах ничего не было видно», — утверждал Левальд. Из пушек и ружей стреляли почти в упор, схватка шла как в темноте, представляя собой уменьшенное подобие сражения при Эйлау. Корпус Лопухина отчаянно защищался и выказывал при царившем беспорядке стоическую храбрость, вообще присущую русской нации. Дрались уже штыками. Был убит генерал Зыбин, смертельно раненный Лопухин попал в руки пруссаков. Но в конце концов оба эти полка дрогнули и были отброшены в глубь леса.
Именно в этот момент Румянцев («Неизвестно по чьему приказу», — пишет г-н Масловский) пробил себе дорогу через скопление повозок и фур и ввел в пустой промежуток между 1-ми 2-м русскими корпусами четыре полка. Пруссаки были отброшены на равнину. Теперь русские линии сомкнулись по всей длине, и надежда возродила отвагу сражающихся.
На правом фланге гренадеры Языкова под защитой батарей отбили атаку драгун Шорлемера еще до того, как успела построиться дивизия Фермора, и этим спасли столь важную позицию. Не сумев сбить их, прусская кавалерия ударила по левому флангу с такой яростью, что опрокинула всю стоявшую там конницу и гнала ее до самого русского обоза в Норкиттене. Видя это, гренадеры Языкова повернулись кругом и произвели залп по пруссакам. Несколько шуваловских гаубиц поливали неприятеля дождем ядер. Блестящая атака пруссаков дала двоякий результат: с одной стороны, далеко отбросила русскую конницу, которая в этот день так больше и не появлялась, а с другой — на несколько часов лишила прусскую кавалерию возможности новой атаки.
Русская пехота на этом фланге, избавившись от страха перед прусскими эскадронами, сама перешла в наступление против стоявших перед ней батальонов, ударила во фланг первой линии Левальда и даже начала стрелять им в спину.
Было уже девять часов утра. Левальд ввел в бой свой последний резерв — выдвинул вторую линию, состоявшую только из гарнизонных полков Мантейфеля и Сидова. Солдаты одного из батальонов, оглушенные ужасным огнем и растерявшиеся от обволакивавшего их дыма, начали стрелять по своей же первой линии, «вследствие фатальной оплошности», как написал Левальд в донесении Фридриху II[63]. Пехота дрогнула и стала откатываться, часть ее разбежалась по равнине, преследуемая до опушки Норкиттенского леса.
На правом фланге, так же как и в центре, успех переходил к русским. Бездействовал только корпус Сибильского. Известно, как в то время, когда вооружение пехотинцев было столь примитивно, они избегали выходить на открытую местность, если поблизости оказывалась неприятельская кавалерия. Возле Удербалена сконцентрировались драгуны принца Голштинского, Шорлемера и Платена и черные гусары Рюша. Они прикрывали свою пехоту и следили за передвижениями Сибильского. Поэтому прежде всего надо было избавиться от них. Тут-то и произошло то, о чем столь подробно пишет Болотов, но чего, судя по всему, он так и не понял:
«На самом левом фланге нашего корпуса стояли наши донские казаки. Сии с самого еще начала баталии поскакали атаковать стоящую позади болота неприятельскую конницу. Сие нам тогда же еще было видно, и мы досадовали еще, смотря на худой успех сих негодных воинов. Начало сделали было они очень яркое. Атака их происходила от нас хотя более версты расстояния, но мы могли явственно слышать, как они загикали — „Ги! Ги!“ и опрометью на пруссаков поскакали. Мы думали было сперва, что они всех их дротиками своими переколют, но скоро увидели тому противное. Храбрость их в том только и состояла, что они погикали и из винтовок своих попукали, ибо как пруссаки стояли неподвижно и готовились принять их мужественным образом, то казаки, увидя, что тут не по ним, оборотились того момента назад и — дай бог ноги. Все сие нам было видно; но что после того происходило, того мы не видели, потому что казаки, обскакивая болото, выехали у нас из глаз. Тогда же узнали мы, что прусские кирасиры[64] и драгуны сами вслед за ними поскакали и, обыскивая болото, гнали их, как овец, к нашему фрунту. Казакам некуда было деваться. Они без памяти скакали прямо на фрунт нашего левого крыла, а прусская конница следовала за ними по пятам и рубила их немилосердным образом. Наша пехота, видя скачущих прямо на себя и погибающих казаков, за необходимое почла несколько раздаться и дать им проезд, чтоб могли они позади фрунта найтить себе спасение. Но сие едва было не нашутило великой шутки. Прусская кавалерия, преследуя их поэскадронно в наилучшем порядке, текла как некая быстрая река и ломилась за казаками прямо на нашу пехоту. Сие самое причиною тому было, что от сего полку началась по ним ружейная стрельба; но трудно было ему противиться и страшное стремление сей конницы удержать. Передние эскадроны въехали уже порядочным образом за казаками за наш фрунт и, рассыпавшись, рубили всех, кто ни был позади фрунта. Для сего-то самого принуждено было оборотить наш фрунт назад. Но все бы сие не помогло, и пруссаки, въехавшие всею конницею своею в наш фланг, смяли бы нас всех поголовно и совершили бы склонявшуюся уже на их сторону победу, если бы одно обстоятельство всего стремления их не удержало и всем обстоятельствам другой вид не дало. Батарея, о которой я выше упоминал, по счастию, успела еще благовременно обернуть свои пушки, и данный из нее картечью залп имел успех наивожделеннейший, ибо как ей случилось выстрелить поперек скачущих друг за другом прусских эскадронов, то, выхвативши почти целый эскадрон, разорвала тем их стремление и скачущих не только остановила, но принудила опрометью назад обернуться. Те же, кто вскакали за наш фрунт, попали как мышь в западню. Пехота тотчас опять сомкнулась, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом. Наша кавалерия их тут встретила и перерубила всех до единого человека»[65].
Известно, что Болотов не любил казаков. Как у цивилизованного человека у него были свои предрассудки против этих полудикарей. Он повсюду нарочито преувеличивает совершавшиеся ими эксцессы, а здесь облыжно называет их «негодными воинами». Его извиняет лишь непонимание сути дела. Ведь казаки и не предназначены для атак на тяжелую кавалерию, они должны лишь беспокоить неприятеля, вывести его из терпения и по возможности заманить в какую-нибудь ловушку. При Грос-Егерсдорфе казаки просто-напросто применили свою излюбленную тактику, известную еще скифам Геродота и нередко приносившую успех в битвах с турками и татарами. На сей раз она удалась по отношению к немцам: драгуны Шорлемера и принца Голштинского, которые долго не поддавались на провокации казаков, все-таки не смогли удержать себя от преследования. Среди тумана и дыма они не заметили, как их заманивают под огонь 18 батальонов и 40 полковых пушек, под сабли драгун, конногренадеров и калмыков Сибильского. Так великолепная прусская кавалерия попалась в ловушку и лучшая ее часть погибла[66].
Благодаря этому неожиданно исчезло то препятствие, которое удерживало Сибильского в бездействии — теперь местность перед ним была расчищена. Весь его корпус пришел в движение, готовясь к атаке: пехота, регулярная кавалерия, эскадроны гусар, казаки и калмыки. Прусская пехота маршировала и сражалась с самого рассвета; уже пять часов она находилась под убийственным огнем пушек, изголодавшаяся и обессиленная. Один только полк Кальнайна потерял почти половину людей. Прусская артиллерия была вынуждена умолкнуть, кавалерия отбита от правого фланга русских и изрублена на их левом фланге. Опасались атаки Фермора, и когда появился свежий корпус Сибильского, это выглядело уже устрашающе. Отступление сначала происходило в полном порядке, но мало-помалу, убыстряясь, превратилось в бегство. Через четверть часа поле битвы опустело, и армия Левальда исчезла в том же лесу, из которого она вышла утром.
Было уже десять часов, русские выиграли битву на всех пунктах и заняли оставленные неприятелем позиции. Повсюду раздавались победные крики «Ура!», в воздух взлетали тысячи шляп. Палили из захваченных у врага пушек и ружей. Это была первая победа русской армии в настоящей европейской войне, где русская пехота явила себя всему миру. Болотов рисует нам впечатляющую картину поля битвы:
«Не успели нас распустить из фрунта, как первое наше старание было, чтобы, севши на лошадей, ехать смотреть места баталии. Какое зрелище представилось нам тогда, подобного сему еще никогда не видавшим! Весь пологий косогор, на котором стояла и дралась прусская линия, устлан был мертвыми неприятельскими телами, и чудное мы при сем случае увидели. Все они лежали уже как мать родила, голые, и с них не только чулки и башмаки, но и самые рубашки были содраны. Но кто и когда их сим образом обдирал, того мы никак не понимали, ибо время было чрезвычайно короткое, и баталия едва только кончилась. И мы не могли довольно надивиться тому, сколь скоро успели наши погонщики, денщики и люди сие спроворить и всех побитых пруссаков так обнаготить, что при всяком человеке лежала одна только деревянная из сумы колодка, в которой были патроны, и синяя бумажка, которой они прикрыты были. Сии вещи, видно, никак уже были не надобны, а из прочих вещей не видели мы уж ни одной, так что даже самые ленты из кос, не стоившие трех денег, были развиты и унесены»[67].