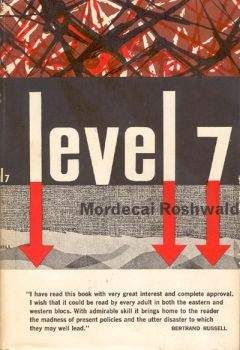Мама опустила глаза и ничего не видит. А вдруг звездочка залетит к нам? А вдруг там, за дверью, Илия или сам Мессия?
Дрожу и прислушиваюсь. Но все тихо. Тишина нисходит с неба, окутывает улицу, дома. Ничьи шаги ее не нарушают. В фонарях теплятся тоненькие фитильки.
В окнах дома напротив мерцает отблеск свечного огонька. Может, в каждом доме сейчас открыта дверь? И у каждой двери стоят мать и дочка с зажженной свечой?
За спиной у нас вдруг загрохотало. Задвигались сразу все стулья. Или даже сдвинулся с места стол. Это мужчины услышали, что мы открыли дверь, разом встали и так громко читают "Агаду", словно хотят разбудить ночь.
Я прижимаюсь к маме. Вцепляюсь в ее юбку. Если нас схватит тьма, пусть хоть я буду с ней рядом!
Огонек свечи дрожит и мечется из стороны в сторону. Я прикрываю его обеими руками, закрываю от ветра. Не дай Бог, потухнет и мы останемся в кромешной мгле, перед зияющим черным провалом открытой двери!
Мама читает "Агаду" неслышно - чтобы немая ночь лучше поняла ее тихую молитву. Губы ее чуть шевелятся. Лоб наморщен. Очки сползли на кончик носа Свечка тает...
Кажется, мы стоим тут и все про нас забыли.
Я подставляю голову под книгу, под мамины руки так на меня падают ее жаркие славословия, и мне не страшно.
"Пророк Илия! Смилуйся! Сойди скорее с небес! Здесь холодно и темно. Войди в дом. Там тебя ждут. И тебе там тоже будет теплее. Слышишь папину молитву? Он никогда не кричит, а сегодня взывает к Богу громко-громко. Приди же, пророк Илия! Приди к нам!"
Тоненькая струйка света сочится из приоткрытой двери, вспарывая темноту. Мне хочется поднять голову, посмотреть, что делает мама, что творится на небе.
Но глаз не открыть, в них впивается темнота. Точно так же, как непереносимый для глаз яркий свет.
- В будущем году в Иерусалиме! - Доносится из столовой заключительный крик.
Снова шум придвигаемых к столу стульев и снова тишина.
- Мама, пророк Илия уже в доме?
- В будущем году в Иерусалиме! - Выкрикивает она вместо ответа в открытую дверь.
Выглядываю на улицу. Ветер улегся. Небо усыпано звездами, большие и маленькие, они сбежались со всего света. И висят, как перевернутые подсвечники. Они сцепляются лучами и образуют балдахин, которым вот-вот накроется светлая луна, точно новобрачная во всем своем великолепии.
Закрыв "Агаду", мама делает легкий взмах рукой, будто посылает что-то в небо. Или... или она не хочет уходить?
Последний взмах-поцелуй, и она закрывает дверь.
Возвращаемся молча. Ночь провожает нас прохладой, будто ведет воздушными ладонями за плечи.
В столовой тепло и светло. Все, опустив глаза, шепотом читают.
На нас никто не глядит. Мама молча садится. Меня окутывает бормотанье, оплетают строчки древней "Агады".
Я верчу головой.
Где же пророк Илия?
Взбудораженное сердце остывает.
АФИКОМАН
[В начале пасхальной трапезы глава семьи разламывает надвое средний из лежащих перед ним трех кусков мацы и большую часть прячет, она называется "афикоман", десерт. Во время трапезы кто-то из детей похищает его и потом получает вознаграждение за то, что возвращает. После того как съеден "афикоман" еда в этот вечер запрещена]
- Саша! - зовет мама. - Отнеси это вино Ивану.
Сторож, который должен охранять нас от воров и разбойников, басит где-то далеко.
Неужели Иван выпьет всю чашу вместе с напастями? - думаю я со страхом.
- Наполните бокалы! - приказывает папа.
Снова читается Агада. Нет-нет вдруг выделится чей-то голос и заглохнет, будто провалился в колодец. Кто-то из гостей неслышно бормочет себе в бороду. Кто-то другой спешит - наверное, торопится поесть.
Папа поднимается первым. Совершает омовение рук. Дети, побросав книжки, спешат за ним, устраивают толкотню в умывальной комнате, вырывают друг у друга кувшин и мокрое полотенце.
Потом так же впопыхах возвращаются по местам, хватают кусочки мацы, которые папа всем раздал для благодарения. По столу скачут крошки, пока кто-нибудь из детей не сгребет их в ладонь.
- На, Башенька, возьми еще. Ты ведь любишь хазерет?
Папа второй раз протягивает мне хрен. Я накладываю его толстым слоем между двумя кусками мацы и жую, как горькое пирожное.
Мама разбалтывает вилкой желтки в соленой воде, и каждый с гримасой зачерпывает ложечку и окунает в нее губы.
За всем этим я забываю хорошенько посмотреть, куда папа спрятал афикоман. А поди-ка поищи в его толстенной, как набитое перьями брюхо, подушке! Уже подают рыбу. Все тянут тарелки. За рыбой следует кнедлах, шарики-клецки, которые так вкусно есть вместе с золотистым бульоном.
Дети заглядывают друг к другу в тарелки.
- У тебя лишний? Дай! Дай мне!
- Доедай скорее - торопит меня папа. - А то не успеешь до афикомана.
Мы все устали, объелись, нас разморило и клонит в сон. Все смотрят на папу. А он принимается елозить на стуле. Перебирает свои подушки, ищет афикоман.
- Ах, сорванцы! Все-таки стянули.
А сам улыбается.
Я все прозевала, не видела, ни куда папа спрятал афикоман, ни кто его стащил...
- Ха-ха-ха! А вот он у меня! - блестя глазами, вопит Абрашка и размахивает кусочком афикомана.
- Ладно-ладно... давай договоримся! Что ты хочешь взамен? - спрашивает папа.
- Ни за что не отдам. Разве что за... за... - Абрашка захлебывается от счастья и придумывает грандиозный подарок.
Я гляжу на него с ужасом и даже радуюсь, что не я украла афикоман. Я бы все равно попросила какую-нибудь ерунду. А он молодец, не растерялся!.. И это у нас в доме, где весь год никому ничего, пусть хоть самое пустячное, не позволено выпрашивать.
Но папа сегодня по-королевски щедр и не думает торговаться...
- У тебя губа не дура, ну да ладно. Так и быть, получишь, что пожелал, только отдай афикоман. Уже поздно...
MЕСЯЦ АВ, ДЕВЯТОЕ ЧИСЛО
[Тиша бе-ав - девятое число месяца ава. На этот день пришлось разрушение Первого Иерусалимского Храма Навуходоносором и Второго - римским императором Титом. В память об этих событиях евреи отмечают Тиша бе-ав как день поста и траура.]
Почти все лето я живу в деревне. Жужжат тучи мух. Солнечные лучи колосьями света падают сквозь зеленые ветви. Они не даются в руки - не схватишь, выскальзывают из-под ног - не наступишь. Тут я забываю город и сама становлюсь растением.
Бегаю босиком. И начинаю ощущать землю, дождевую воду. Как красная ягодка, нежусь на краю поля. Захожу в лес, перелезаю через спутанные корни вывороченных деревьев. Ищу чернику, собираю ее в корзиночку. Мои босые ноги - как они вытянулись, налились силой! Я впитываю свежий воздух, солнце. Не замечаю, как пролетают дни и ночи, как все дальше и глубже уходит солнце и каждый вечер тени, что ложатся на землю в сумерках, делаются все длиннее.
- Едем, Башенька, завтра Тиша бе-ав.
Вот хорошо! Я так давно не была дома.
- Ух, как ты выросла! - всплеснет руками Саша. А мама только взглянет, не выдавая радости - не сглазить бы, сохрани Бог!..
Я возвращаюсь в дом веселая и застываю на пороге.
Кто-то умер? Почему все плачут? Зачем мама вызвала меня домой? Я словно упала с ясного неба в темную яму.
Стою на пороге и смотрю на маму. Она сидит, поникнув головой, и читает "Плач Иеремии".
Меня она не видит, лицо ее в слезах. Пустой стол, как саваном, накрыт длиннющей белой скатертью. Оплывшие свечи горят в канделябрах. Рядом с ними священные книги. У стола стоит отец. В глаза бросаются белые полоски носков. Сердце его перевернулось.
Боже мой! Почему все так серо и черно? На дворе лето. Сияет солнце. Бегают и смеются дети. А тут?
Мама с папой, оба в трауре, сели на низкие скамейки, как на камни. И словно окаменели сами.
Только слезы катятся из глаз, будто хотят размягчить камень. На полу песок и пепел.
Что за грех совершили родители, чтобы так каяться перед Господом? Какую беду оплакивают? Брат Мендель горестно объясняет:
- Мы лишились священного Храма. Его сожгли. Разрушили до основания. Сегодня Тиша бе-ав.
На меня обрушивается печаль. А перед глазами еще пестрят красные и белые цветочки.
Мое теплое лето разом увяло.
Подбегает Абрашка и тянет меня за рукав.
- Что ты тут стоишь? Пошли во двор. Мы там бросаемся репьями.
Мне все равно. Во двор так во двор. Абрашка уже набрал полную горсть репьев.
Да если все эти колючие комочки попадут в меня, то расцарапают всю до крови. Скорей прикрыть ладонями глаза. Абрашка стреляет, как из ружья. Репьи вцепляются мне в волосы. И некуда деться от них.
- Абрашка, хватит! Оставь и мне!
- Вот, вот, держи, это все тебе. А теперь твоя очередь.
Я сдираю с себя репьи и запускаю их назад в Абрашку. Швыряю и швыряю, не глядя на него.
А он? Он преспокойно ловит их и прицепляет на себя, как пуговицы на рубашку и помпон на картуз. Вся грудь утыкана.
А из открытых окон доносятся глухие рыдания.
- "Как одиноко сидит город!" (Первый стих Плача Иеремии)
Неужели никогда не вернется к нам радость?