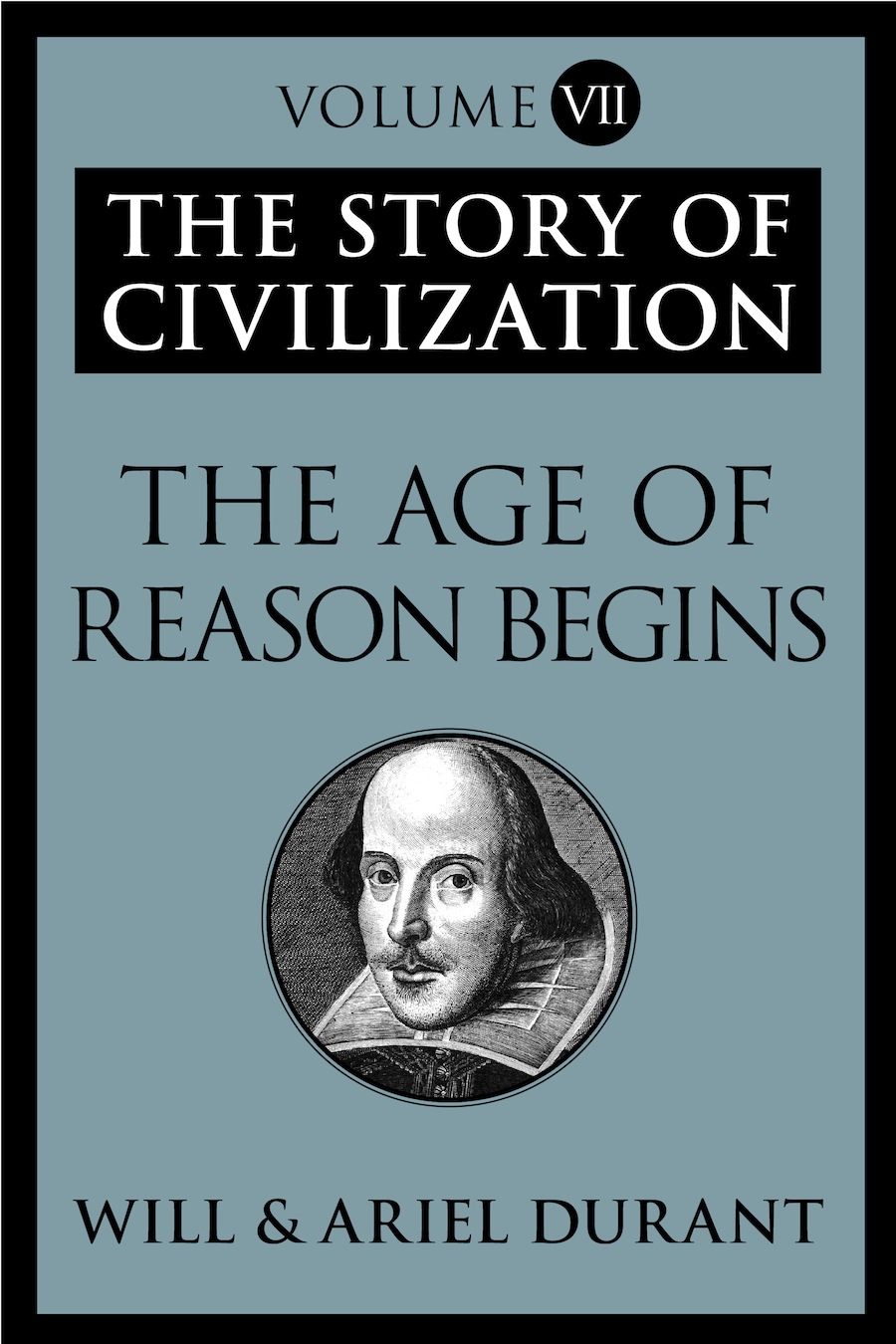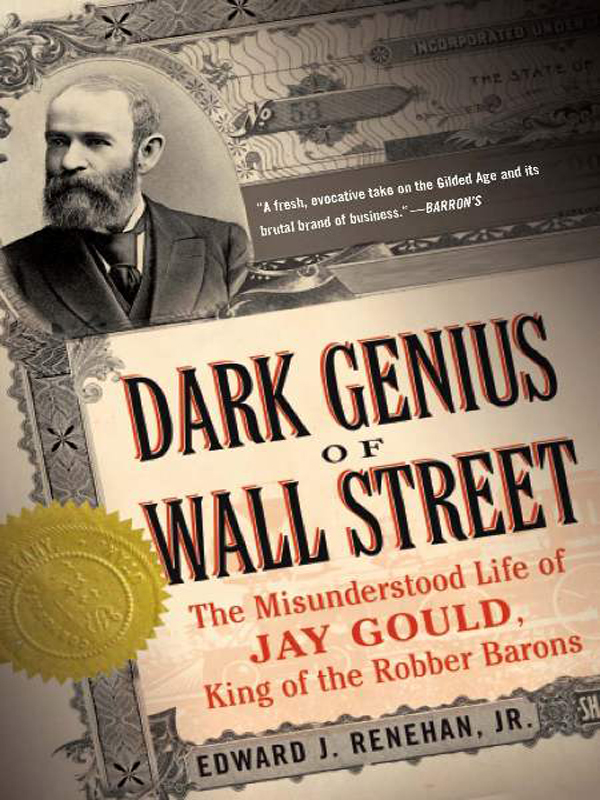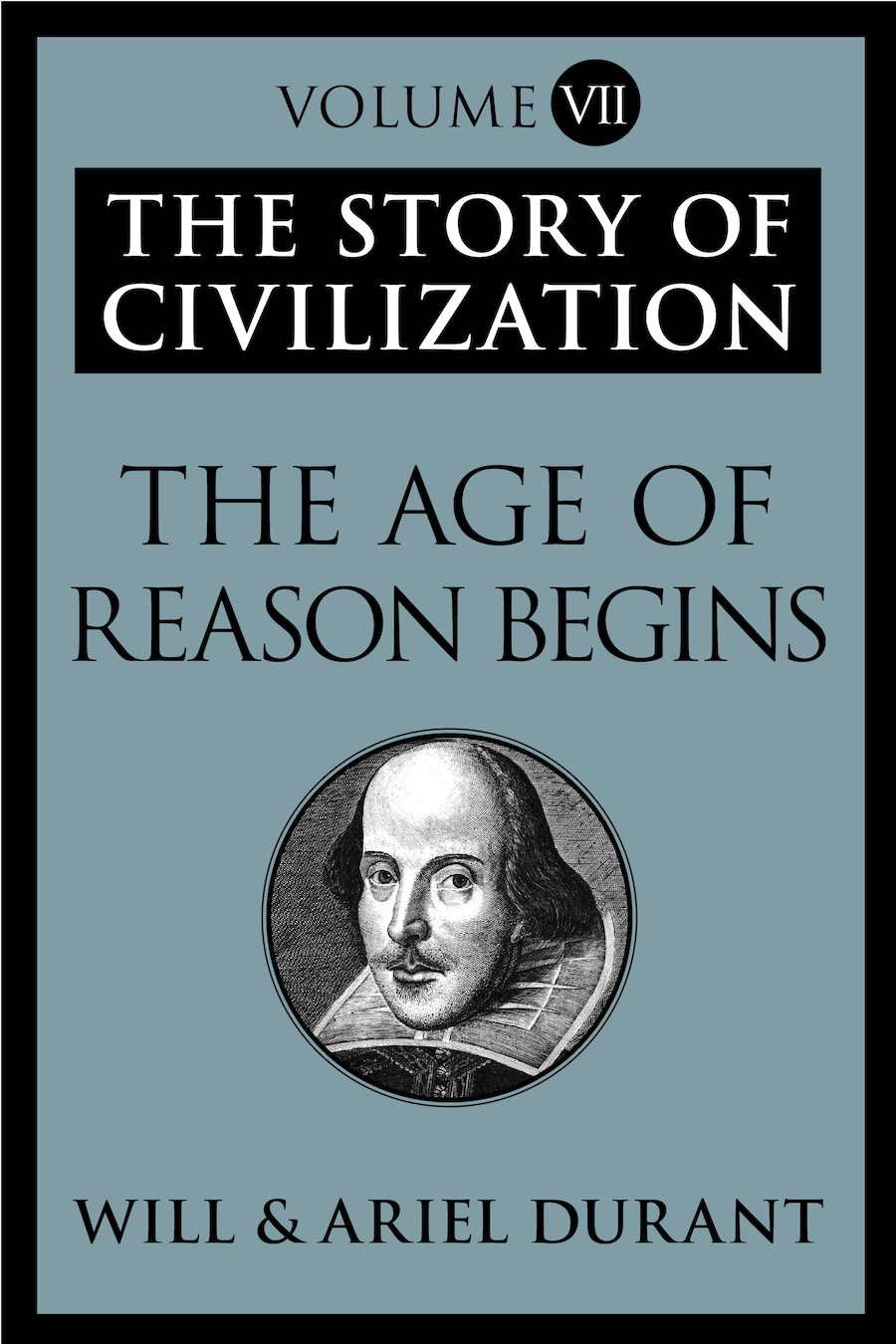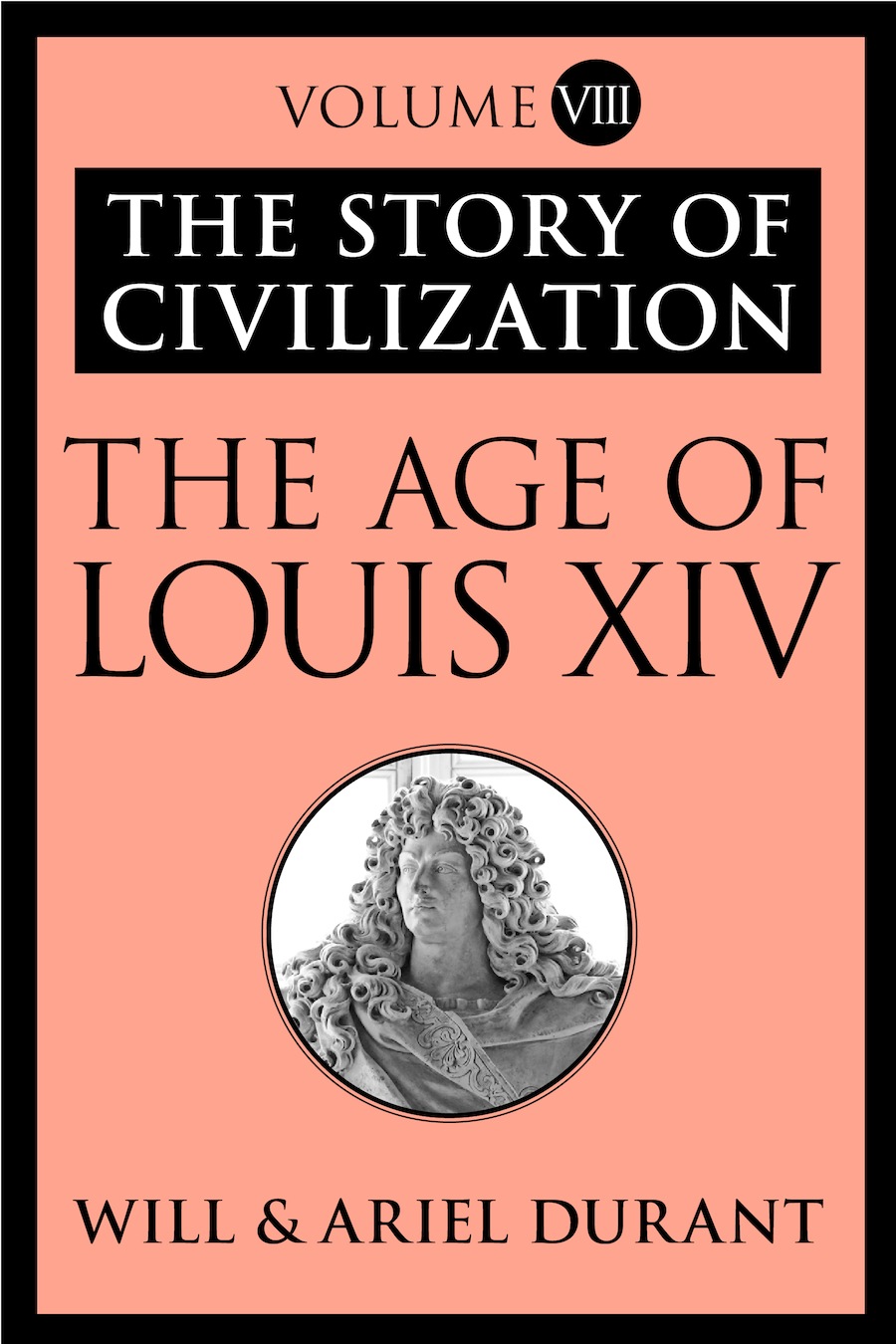последние дни своей жизни, — говорит его первый биограф, — среди тяжелых физических страданий, его ум был постоянно занят механическими и математическими проблемами».116 В 1637 году, незадолго до того, как его зрение стало ослабевать, он сообщил о своем последнем астрономическом открытии — либрации Луны — колебаниях той стороны Луны, которая всегда обращена к Земле. А в 1641 году, за несколько месяцев до смерти, он объяснил своему сыну план создания маятниковых часов.
Портрет, написанный Сустермансом в Арчетри (сейчас находится в галерее Питти), — воплощение гения: огромный лоб, драчливые губы, ищущий нос, проницательные глаза; это одно из самых благородных лиц в истории. Глаза потеряли зрение в 1638 году, возможно, от слишком напряженного взгляда. Он утешал себя мыслью, что ни один человек со времен Адама не видел так много, как он. «Эта вселенная, — говорил он, — которую я расширил в тысячи раз… теперь сжалась до узких пределов моего собственного тела. Так нравится Богу, так должно нравиться и мне».117 В 1639 году, страдая от бессонницы и сотни болей, он получил от инквизиции разрешение посетить Флоренцию под строгим надзором, чтобы повидаться с врачом и послушать мессу. Вернувшись в Арчетри, он диктовал Вивиани и Торричелли и играл на лютне, пока его слух тоже не ослаб. 8 января 1642 года, в возрасте почти семидесяти восьми лет, он умер на руках своих учеников.
Гроций назвал его «величайшим умом всех времен».118 Разумеется, у него были некоторые ограничения в интеллекте и характере. Его недостатки — гордость, вспыльчивость, тщеславие — были буквально недостатками или ценой его качеств: упорства, смелости и оригинальности. Он не признавал важности расчетов Кеплера по планетарным орбитам. Он медленно оценивал работы своих современников. Он вряд ли осознавал, сколько открытий в механике было сделано до него — некоторые из них сделал другой флорентиец, Леонардо. Взгляды, за которые он был наказан, не совпадают с теми, которых придерживаются астрономы сегодня; как и большинство мучеников, он страдал за право быть неправым. Но он не ошибался, считая, что сделал динамику полноценной наукой и расширил человеческий разум и перспективы, открыв в большей степени, чем когда-либо прежде, пугающую необъятность Вселенной. Он разделил с Кеплером честь признания Коперника, а с Ньютоном — честь показать, что небеса возвещают славу закона. И, как хороший сын эпохи Возрождения, он писал лучшую итальянскую прозу своего времени.
Его влияние распространилось на всю Европу. Само его осуждение повысило статус науки в северных землях и на некоторое время понизило его в Италии и Испании. Не то чтобы инквизиция уничтожила итальянскую науку: Торричелли, Кассини, Борелли, Реди, Мальпиги, Морганьи передали факел Вольте, Гальвани и Маркони. Но итальянские ученые, помня Галилея, избегали философских последствий науки. После сожжения Бруно и запугивания Декарта судьбой Галилея европейская философия стала монополией протестантов.
В 1835 году церковь изъяла труды Галилея из своего Индекса запрещенных книг. Сломленный и побежденный человек одержал победу над самым могущественным институтом в истории.
I. О суевериях, науке и философии в Англии в этот период см. главу VII.
II.Йена (1558), Женева (1559), Лилль (1562), Страсбург (1567), Лейден (1575), Хельмштедт (1575), Вильно (1578), Вюрцбург (1582), Эдинбург (1583), Франекер (1585), Грац (1596), Дублин (1591), Люблин (1596), Хардервейк (1600), Гиссен (1607), Гронинген (1614), Амстердам (1632), Дерпт (1632), Будапешт (1635), Утрехт (1636), Турку (1640), Бамберг (1648).
III. В идеале в календаре должно быть тринадцать месяцев, каждый из которых состоит из двадцати восьми дней, с праздником без даты (или, в високосные годы, с двумя) в конце года. Такой одностраничный календарь с поворотными устройствами для указания месяца и года мог бы служить для каждого месяца бесконечно долго; каждый день недели приходился бы на одни и те же числа в каждом месяце и в каждом году; рабочий год был бы равномерно разделен на равные месяцы и равные кварталы. Но, увы, это запутало бы святых.
IV. Записи Аристотеля часто представляют собой синкопированные заметки, которые он, вероятно, усиливал или изменял, читая лекции. Отрывок из «De Coelo» может означать, что в сопротивляющейся среде, в том числе в открытом воздухе, предметы с концентрированной массой, например монета, падают быстрее, чем предметы, большие по размеру, но малые по весу, например лист бумаги; это, конечно, верно. Но в вакууме монета и бумага — или свинцовый шарик и перо — падают с одинаковой скоростью; и даже на открытом воздухе бумага, если ее скомкать в компактную массу, падает почти с той же скоростью, что и монета. Если мы обратим внимание на изменение в утверждении Вивиани — что объекты должны быть «из одного и того же материала… падающие через одну и ту же среду», — то расхождение между афинским философом и пизанским ученым значительно уменьшится.
V. По юмору истории это предположение, которого сегодня не придерживается ни один астроном. Возможно, всю астрономию, как и всю историю, следует воспринимать как гипотезу. В отношении будущего, как и в отношении вчерашнего дня, нет никакой уверенности.
ГЛАВА XXIII. Возрождение философии 1564–1648
I. СКЕПТИКИ
На фоне конфликтов национальных государств, экономических сил, политических партий и разновидностей религиозных верований разворачивалась главная драма современной европейской истории: борьба за жизнь великой религии, осаждаемой и истощаемой наукой, сектантством, эпикурейством и философией. Умирает ли христианство? Неужели религия, давшая западной цивилизации мораль, мужество и искусство, переживает медленный упадок, вызванный распространением знаний, расширением астрономических, географических и исторических горизонтов, осознанием зла в истории и душе, падением веры в загробную жизнь и доверия к благожелательному руководству миром? Если это так, то это основное событие современности, ибо душа цивилизации — это ее религия, и она умирает вместе с верой. Для Бруно и Декарта, Гоббса и Спинозы, Паскаля и Бейля, Гольбаха и Гельвеция, Вольтера и Юма, Лейбница и Канта это был уже не вопрос католицизма и протестантизма, это был вопрос самого христианства, сомнений и отрицаний, поднимающихся вокруг самых дорогих основ древнего вероучения. Мыслители Европы — авангард европейского разума — больше не обсуждали