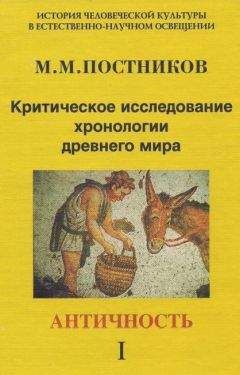Трудность такой экспериментальной проверки состоит в необходимости создания искусственного механизма «потери и забывания». Можно, например, предложить следующее: возьмем какой–нибудь достаточно полный, но не всеобъемлющий обзор средневековой и новой литературы какой–нибудь страны, скажем, Франции, и будем, по определению, считать «забытыми и потерянными» сочинения, в этом обзоре не упомянутые.
Эта идея принадлежит А.С. Мищенко, который и произвел такой эксперимент, взяв обзор французской литературы из статьи «Франция» Советской Исторической Энциклопедии. Оказалось, что никакого выборочного забывания отдельных жанров, вообще говоря, не наблюдается.
Однако можно предложить и другой механизм. Скажите, каких французских драматургов вы помните? Безусловно, вы вспомните Мольера, Корнеля и Расина (все XVII век), а из XVIII века вы вспомните (если у вас нет специальных знаний), пожалуй, только Бомарше. В XIX веке вы не укажете ни одного французского драматурга, кроме, быть может, Гюго и т.п. Получается, что XVII век был на драматургов во Франции втрое более урожайным, чем XVI или XIX век!
Это возражение против соображений Морозова на первый взгляд представляется очень убедительным. Однако если лучше подумать, то становится ясным, что оно не относится к делу. Тот факт, что мы помним драматургов XVII века и забыли многочисленнейших писателей XVIII и XIX веков, объясняется не тем, что сочинения последних до нас не дошли (каждый может найти их в библиотеках), а нашим воспитанием и образованием. Знали ли бы мы Мольера, если он бы не изучался в школе, непрерывно не переиздавался и не ставился в театрах? Античные же писатели якобы дошли до нас через тысячелетний промежуток прерванной культурной традиции, и сохраниться за эту тысячу лет имели одинаковые шансы как самые знаменитые и авторитетные писатели, так и самые ничтожные, ибо все они были равны перед плесенью, сыростью и мышами.
Можно также спросить, верно ли, что «моды бывают только в нарядах»? Казалось бы, наоборот, в истории литературы наблюдается непрерывная смена жанров. В периоды социальных потрясений и революций пышно расцветает поэзия (в основном героико–патриотическая) и театр (в форме массовых театрализованных зрелищ и действ), а в более спокойные времена приоритет получает лирика и психологический роман. Мы сами являемся свидетелем необычайного роста научно–фантастической литературы, практически не существовавшей сорок лет назад. Однако всплески этой моды совсем не так велики, как нам вблизи кажется, несмотря на все, большая часть литературной продукции сейчас, как и раньше, состоит из романов. Литературной моде подведомственны не столько сами жанры, сколько наша их оценка и количество уделяемого им внимания со стороны критики и окололитературной публики. Случись сейчас перерыв в литературно–культурной традиции, и будущие археологи и филологи не обнаружат в остатках нашего времени никакого «плодопеременного хозяйства», аналогичного античному.
Морозов также подвергает (см. [4], стр. 561—652) исследованию сами произведения «античной» драматургии с целью обнаружить в них самих следы подлога. Мы не будем излагать здесь всех соображений Морозова, а ограничимся только теми, которые относятся к Еврипиду.
Вот что пишет Морозов:
«…Вот, например, хоть «Прекрасная Елена» Еврипида, поставленная, судя по надписи, на афинской сцене ровно за 412 лет до «Рождества Христова».
В сценарии ее на переднем плане стоит гробница покойного царя. За нею стена кремля, у которой ворота настежь открыты. Далее холм, на котором возвышается роскошный дворец Феоклимена, но двери его заперты. Сцена первая. Перед гробницей на ложе из листьев и ветвей. Елена. Утро. Царица поднимается с ложа.
ЕЛЕНА
Здесь блещут Нила девственные волны
Взамен росы небесной он поит
Лишь снег(!!) сойдет в Египте, по низинам
Лежащие поля…
(В сноске Морозов приводит и греческий текст, показывающий, что «снег в Египте» не является вольностью переводчика. — Авт.).
Читатель сам поймет, что краска стыда на лице не позволяет мне останавливать его особое внимание на снеге, покрывающем Египет…
Скажу только, что измыслить такую несообразность не мог ни один ионийский или какой–либо другой грек, а только француз — не южнее Парижа или германец — не южнее Вены.
Но обратите внимание опять на обстановку сцены, необходимую особенно при четвертом выходе, когда «на фоне рассвета одна рабыня несет высоко поднятый горящий факел и чашу, в которой дымится сера, а ее госпожа останавливается и долго смотрит на предрассветное небо»…
Еще сложнее обстановка сцены в тех местах «классических авторов», где являются боги. Вот, например, трагедия «Геркулес», того же Еврипида, на которой скромно написано, что она «представлена в Афинах около 420 года до «Рождества Христова».
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Набегает мрак. Глухие раскаты грома. В воздухе над домом Геркулеса показываются крылатая молодая богиня Ирида в шафранном плаще и страшное костлявое создание, Лисса, со змеями в черных волосах и с отвратительным лицом, в черном одеянии.
…в греческом тексте, по которому я проверял перевод, никакого описания сцены нет, но оно дано переводчиком правильно: без такой обстановки разыграть перед зрителями «Елену» или «Геркулеса» невозможно…
…Какими техническими средствами можно было произвести этот мрак и видения говорящих призраков на афинской открытой сцене еще за 420 дет до «Рождества Христова»? Мы смело можем сказать: никакими, следовательно, ничего подобного и не производилось. Значит, Еврипид, а с ним и все его «классические современники» были уже прекрасно знакомы с западноевропейским театром Эпохи Возрождения, когда… машины на закрытых сценах могли производить и свет и тьму, …перенося на невидимых зрителям черных проволоках в полумраке даже летающих актеров.
И пусть мне не говорят, что о древних декорациях нельзя судить по нашим и что они могли быть сделаны очень грубо. Всякой грубости есть предел, и в трагических местах представления грубость никогда не могла доходить до того, чтобы вместо ужаса возбуждать в зрителях хохот. Ведь все актеры знают, что театральная публика более восприимчива к смешному, чем к трагическому…
Так и в древности появление в воздухе мистической ужасной фурии или привидения не могло быть устроено в виде явного чучела, качающегося на веревке, а должно было возбуждать в зрителях иллюзию сверхъестественности, иначе трагедия мгновенно перескочила бы в комедию…
Итак, мы видим, что с точки зрения декоративной (по–видимому, декорационной. — Авт.) техники классические греческие драмы… не могли быть и написаны без знакомства с театральной техникой Ренессанса. Но то же самое выходит и по структуре их стиха…» ([4], стр. 563—538).
Мы оборвем здесь анализ Морозова, поскольку полностью излагать его у нас нет места.
Возможно, что в процитированном фрагменте Морозов недостаточно учитывает, на что способна привычка к театральной условности, но, конечно, обмолвка Еврипида о «снеге в Египте» впечатляет.
Не нужно, впрочем, думать, что эта обмолвка Еврипида никем до Морозова не была замечена. Напротив, она известна, и известно ее объяснение. Именно утверждается, что Еврипид имел в виду таяние снегов в верховьях Нила, которое, по мнению античных географов, и вызывало его ежегодные разливы. Мы еще раз убеждаемся, что при желании можно объяснить любую странность древней истории, но не является ли это лишь доказательством изобретательности человеческого ума?
К тому же «снег в Египте» не является единственным ляпсусом у Еврипида. Например, в «Ипполите и Федре» хор поет:
«И ланиты с косою золотою
За кисейною прячет фатою».
Морозов справедливо указывает, что «коса золотая» является атрибутом блондинок Севера, так что «одно представление о блондинной красоте показывает уже северное происхождение автора…» ([4], стр. 571).
Таким образом, с какой стороны не подойти, всюду обнаруживаются свидетельства апокрифичности «классических» драм.
§ 7. Начало римской летописи
Проблема происхождения и критики источников в настоящее время почему–то считается окончательно решенной; во всяком случае, по–видимому, не существует фундаментального историографического труда XX в., в котором были бы подвергнуты критическому анализу основы информации о древней истории Средиземноморья. Поэтому, чтобы выяснить принципы, положенные в основу, скажем, римской летописи, приходится обращаться к трудам исследователей XIX века.
В этом параграфе прореферированы две вышедшие почти одновременно (1903 г.) книги Радцига и Мартынова под почти одинаковыми названиями «Начало римской летописи» и «О начале римской летописи» (см. [34,35]), отличающиеся тщательностью разбора этого вопроса. В обеих книгах все ссылки на труды Ливия и других римских авторов подкреплены детальными указаниями на конкретные места в этих трудах; весь этот громоздкий технический аппарат здесь опущен, но читатель, который заинтересуется конкретными ссылками, может все их найти в [34,35].