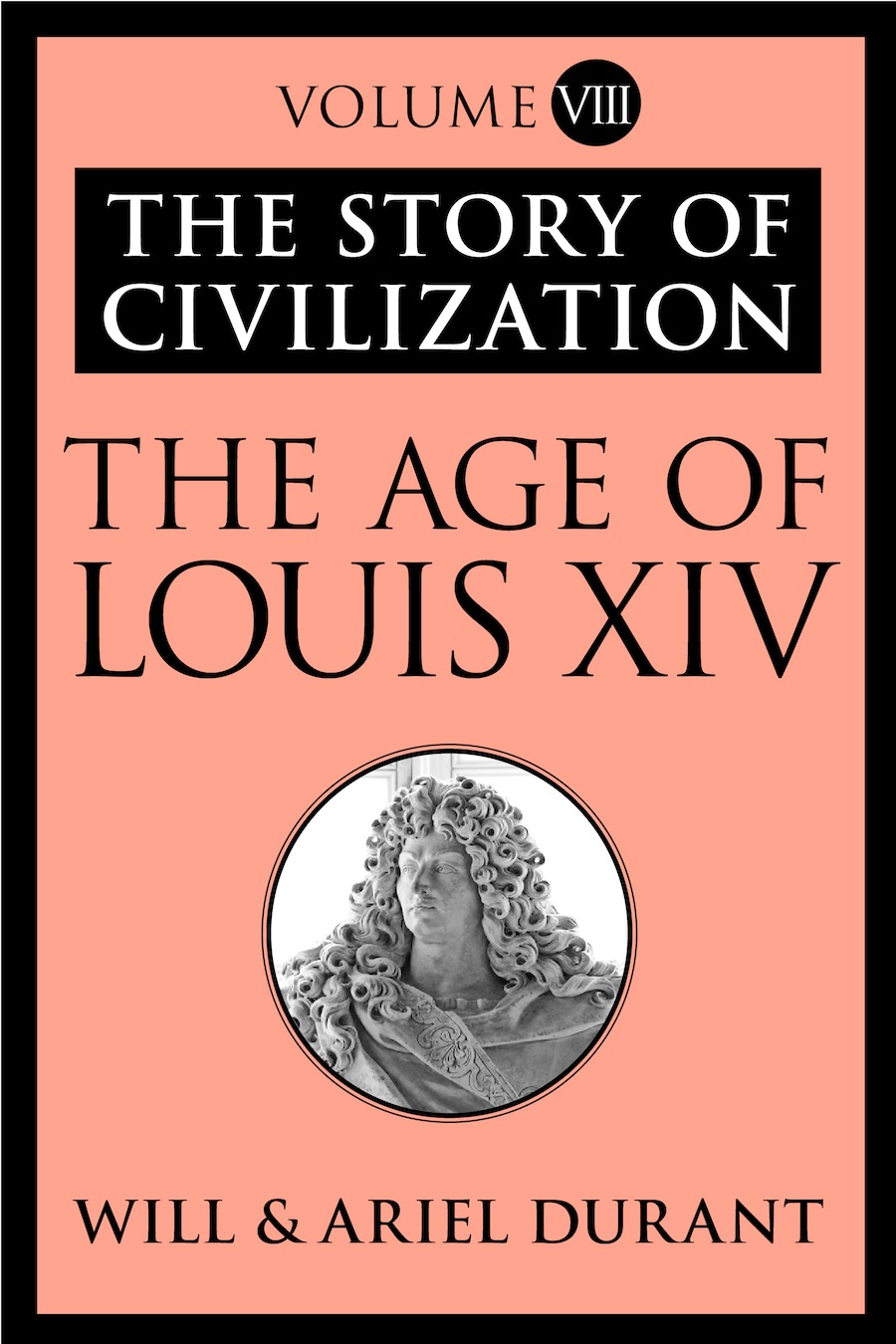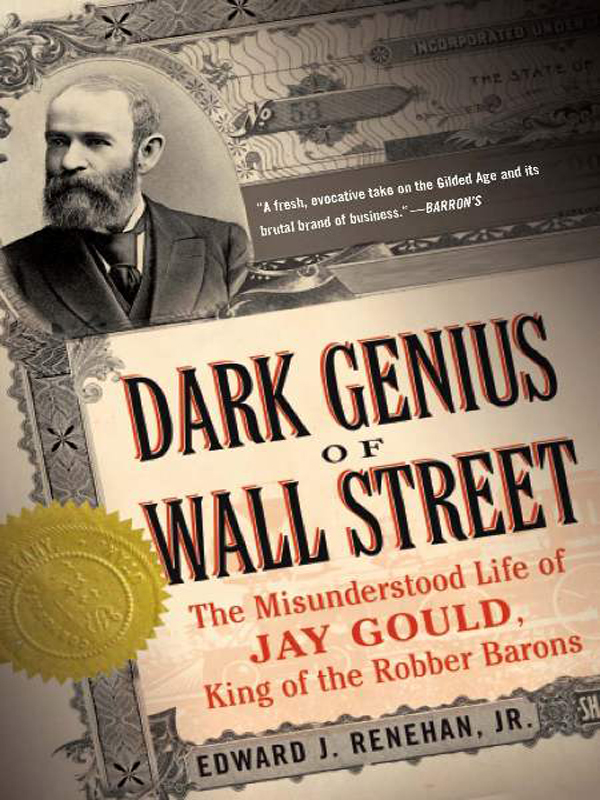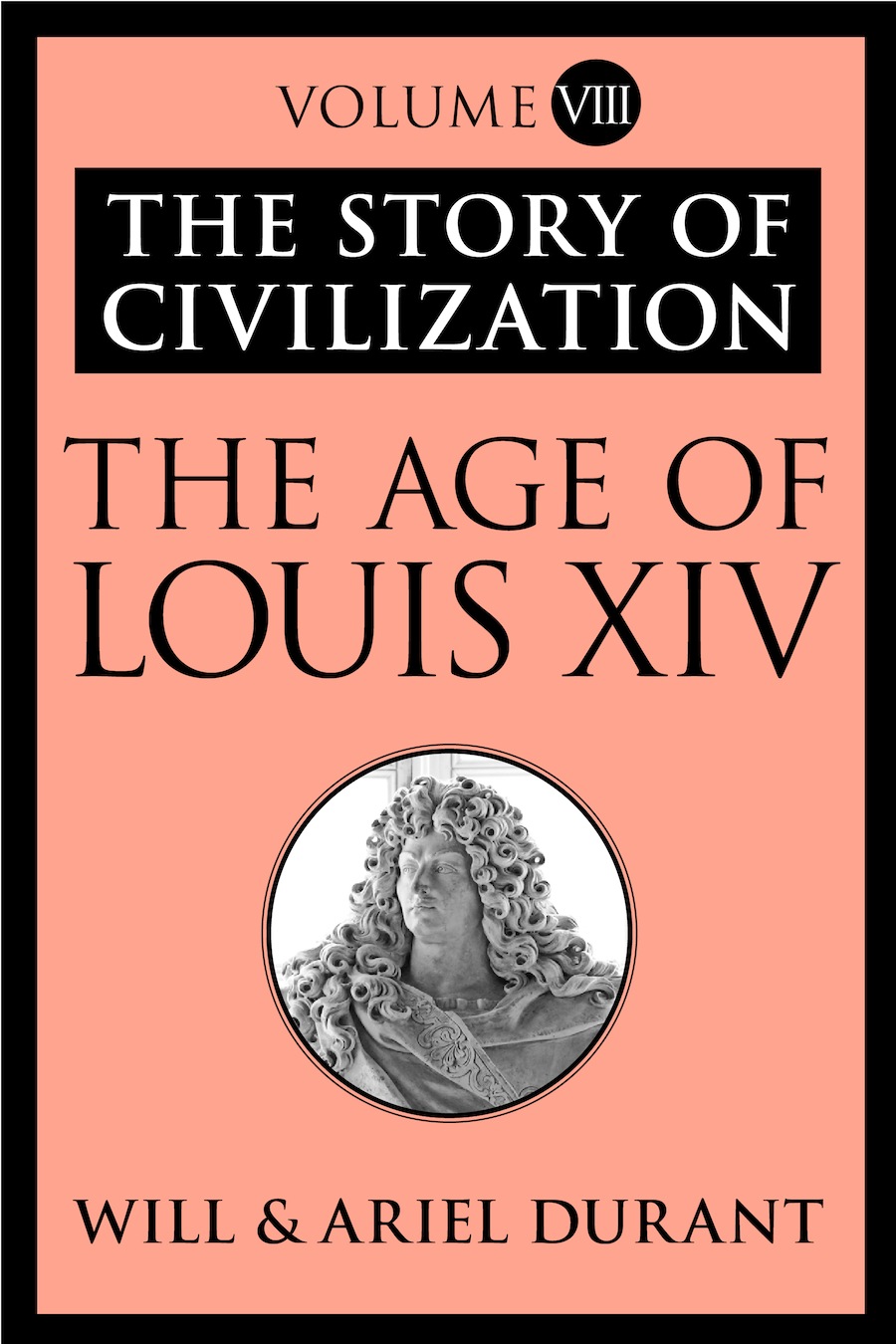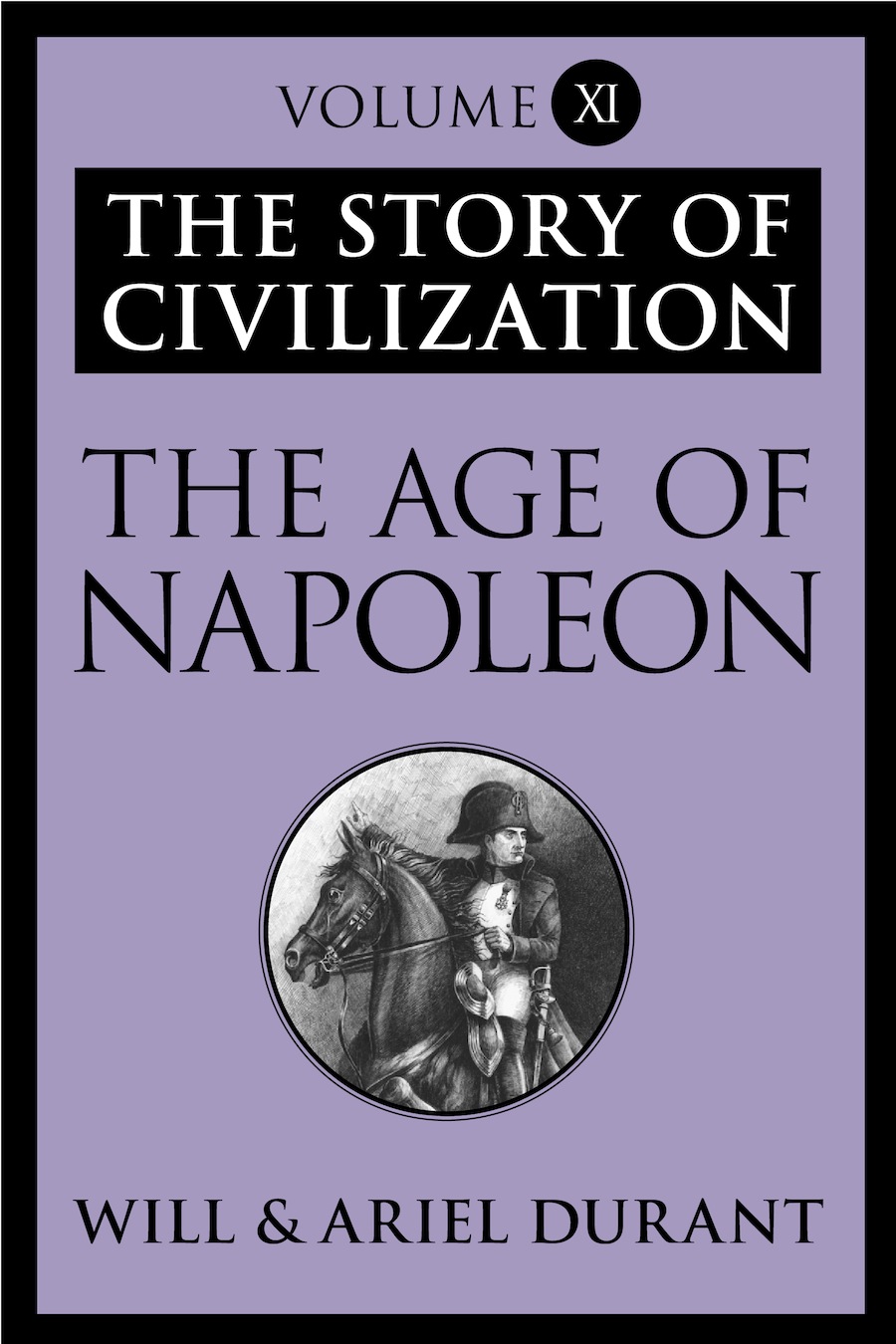зверей и машины [как на войне]; она в том, чтобы обеспечить безопасное функционирование их тел и их разума. Оно должно привести людей к тому, чтобы они жили, руководствуясь истинным разумом. Цель государства — это свобода. 170
Поэтому Спиноза вновь обращается к свободе слова или, по крайней мере, мысли. Но, поддавшись, как и Гоббс, страху перед теологическим фанатизмом и распрями, он предлагает не просто подчинить церковь государственному контролю, а сделать так, чтобы государство определяло, какие религиозные доктрины должны преподаваться народу. Quandoque dormitat Homerus.
Он переходит к обсуждению традиционных форм правления. Став голландским патриотом, возмущенным вторжением в Голландию Людовика XIV, он не испытывает восхищения монархией и резко выступает против абсолютизма Гоббса:
Предполагается, что опыт учит, что мир и согласие достигаются, когда вся власть передается одному человеку. Ведь ни один политический строй не продержался так долго без заметных изменений, как турецкий, и ни один не был так недолговечен, да еще и так измучен смутами, как народные или демократические государства. Но если рабство, варварство и запустение можно назвать миром, то мир — это самое страшное несчастье, которое может постигнуть государство. Рабство, а не мир, происходит от передачи всей власти одному человеку. Ибо мир заключается не в отсутствии войны, а в союзе и гармонии человеческих душ». 171
Аристократия, как «правительство лучших», была бы прекрасна, если бы эти лучшие не были подвержены сословному духу, жестоким фракциям и индивидуальной или семейной алчности. «Если бы патриции. были свободны от всех страстей и руководствовались лишь рвением к общественному благосостоянию… то никакое господство не могло бы сравниться с аристократией. Но сам опыт слишком хорошо учит нас, что все происходит совсем не так». 172
И вот Спиноза в свои предсмертные дни начал излагать свои надежды на демократию. Тот, кто любил убитого толпой де Витта, не питал иллюзий относительно народа. «Те, кто на собственном опыте убедился в изменчивости нравов народа, почти впали в отчаяние. Ведь народ управляется не разумом, а эмоциями; он во всем стремится вперед и легко развращается скупостью и роскошью». 173 И все же «я считаю демократию самой естественной из всех форм правления и наиболее созвучной свободе личности. В ней никто не передает свое естественное право настолько абсолютно, что не имеет больше права голоса в делах; он лишь передает его в руки большинства». 174 Спиноза предлагал предоставлять избирательное право всем мужчинам, кроме несовершеннолетних, преступников и рабов. Женщин он исключал, так как считал, что они по своей природе и своим бременам менее пригодны для рассуждений и управления, чем мужчины. 175 Он считал, что правящие чиновники будут поощряться к хорошему поведению и мирной политике, если «ополчение будет состоять только из граждан, и никто из них не будет освобожден от службы; ведь вооруженный человек более независим, чем безоружный». 176 Забота о бедных, по его мнению, была обязанностью всего общества. 177 И должен быть только единый налог:
Поля и вся земля, а также дома, если ими можно управлять, должны быть общественной собственностью, то есть собственностью того, кто владеет правом содружества; и пусть он сдает их в аренду гражданам за ежегодную ренту. За этим исключением пусть все они будут свободны и освобождены от всякого рода налогов в мирное время». 178
И вот, когда он приступил к самой ценной части своего трактата, смерть вырвала перо из его рук.
IX. ЦЕПЬ ВЛИЯНИЯ
В великой цепи идей, которая связывает историю философии в одно благородное нащупывание озадаченной человеческой мысли, мы видим, как система Спинозы формируется через двадцать веков после него и участвует в формировании современного мира. Во-первых, конечно, он был евреем. И хотя он был отлучен от церкви, он не мог избавиться от этого интенсивного наследия, не мог забыть годы изучения Ветхого Завета, Талмуда и еврейских философов. Вспомните ереси, которые должны были поразить его внимание в Ибн Эзре, Маймониде, Хасдае Крескасе, Леви бен Герсоне и Уриэле Акосте. Его обучение Талмуду, должно быть, помогло отточить тот логический смысл, который сделал Этику классическим храмом разума. «Некоторые начинают» свою философию «с сотворенных вещей, — говорил он, — а некоторые — с человеческого разума. Я же начинаю от Бога». 179 Таков был еврейский путь.
От философов, которыми он традиционно восхищался, он взял немногое — хотя в его различении между миром преходящих вещей и божественным миром вечных законов мы можем найти другую форму платоновского разделения между индивидуальными сущностями и их архетипами в разуме Бога. Анализ добродетелей Спинозы восходит к «Никомаховой этике» Аристотеля. 180 Но «авторитет Платона, Аристотеля и Сократа, — говорил он другу, — не имеет для меня большого веса». 181 Подобно Бэкону и Гоббсу, он предпочитал Демокрита, Эпикура и Лукреция. Его этический идеал может перекликаться со стоиками; мы слышим в нем некоторые тона Марка Аврелия; но он полностью соответствовал Эпикуру.
Он был обязан схоластическим философам больше, чем сам осознавал, поскольку они пришли к нему через Декарта. Они тоже, как и Фома Аквинский в великой «Сумме», попытались дать геометрическое изложение философии. Они дали ему такие термины, как substantia, natura naturans, attributum, essentia, summum bonum и многие другие. Их отождествление существования и сущности в Боге стало его отождествлением существования и сущности в субстанции. Он распространил на человека их слияние интеллекта и воли в Боге.
Возможно (как считал Бейль), Спиноза читал Бруно. Он принял различие Джордано между natura naturans и naturanatur ata; возможно, он взял термин и идею из conato de conservarsi Бруно; 182 Возможно, он нашел у итальянца единство тела и разума, материи и духа, мира и Бога, а также концепцию высшего знания как того, которое видит все вещи в Боге — хотя немецкие мистики, должно быть, распространили это мнение даже в торговом Амстердаме.
В первую очередь Декарт вдохновлял его философскими идеалами и отталкивал теологическими банальностями. Его вдохновляло стремление Декарта сделать философию похожей на Евклида по форме и ясности. Вероятно, он последовал за Декартом в составлении правил, которыми он руководствовался в своей жизни и работе. Он слишком легко