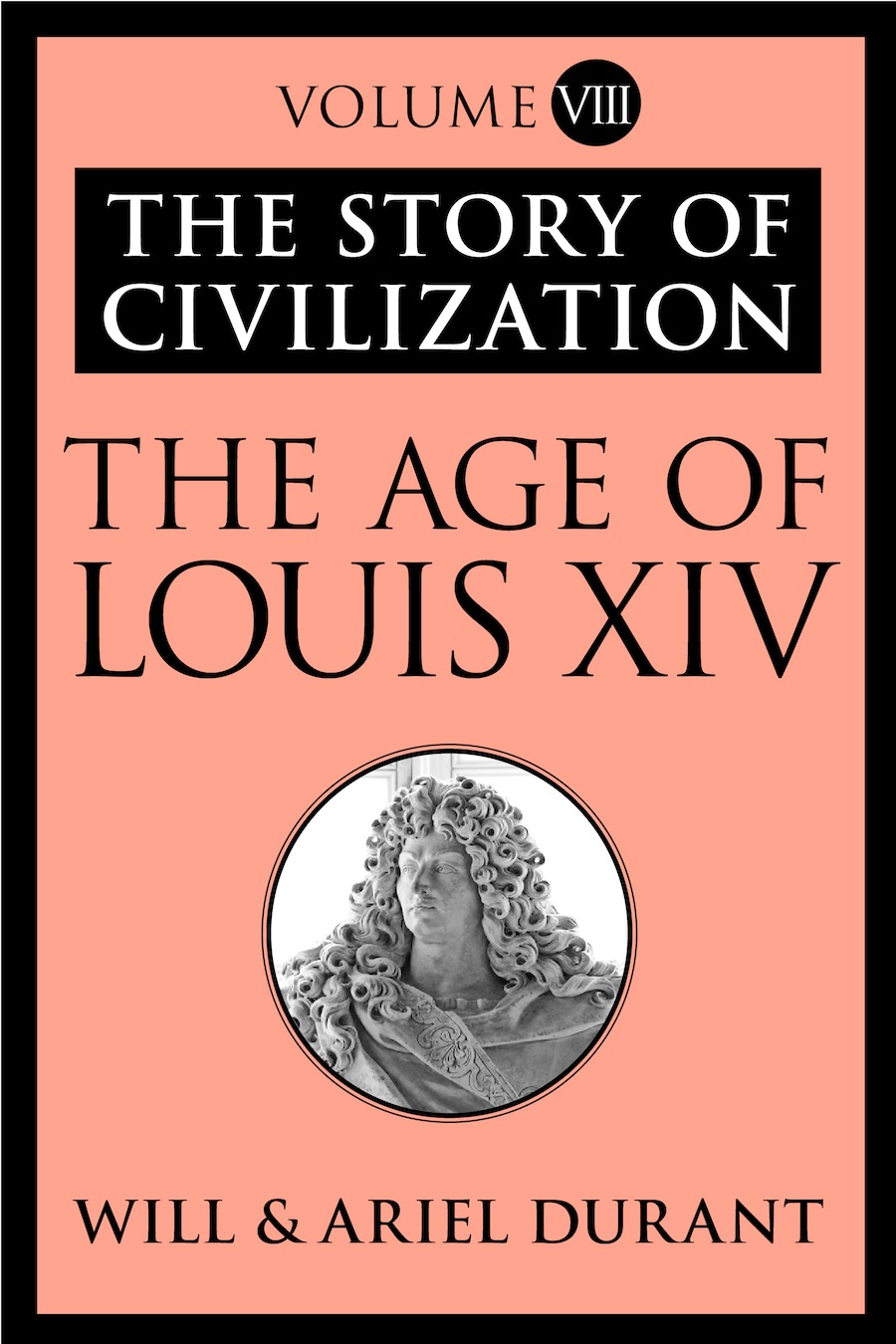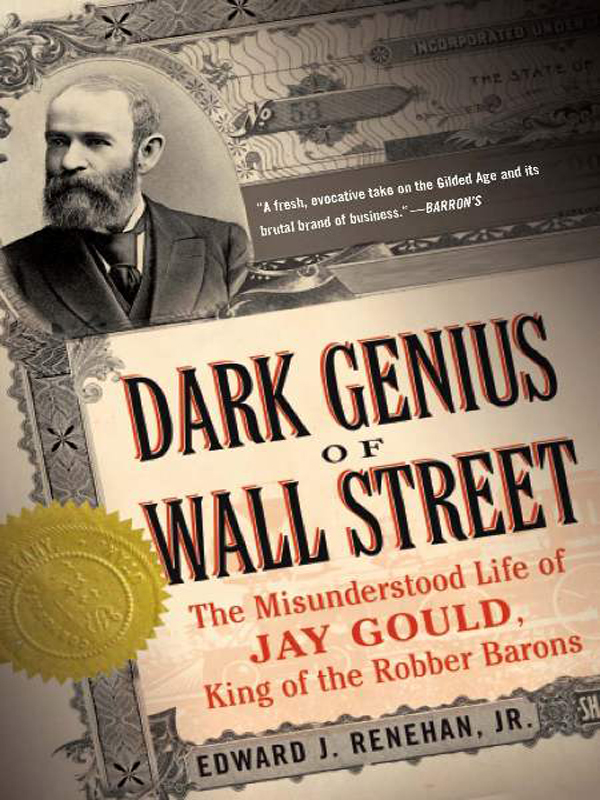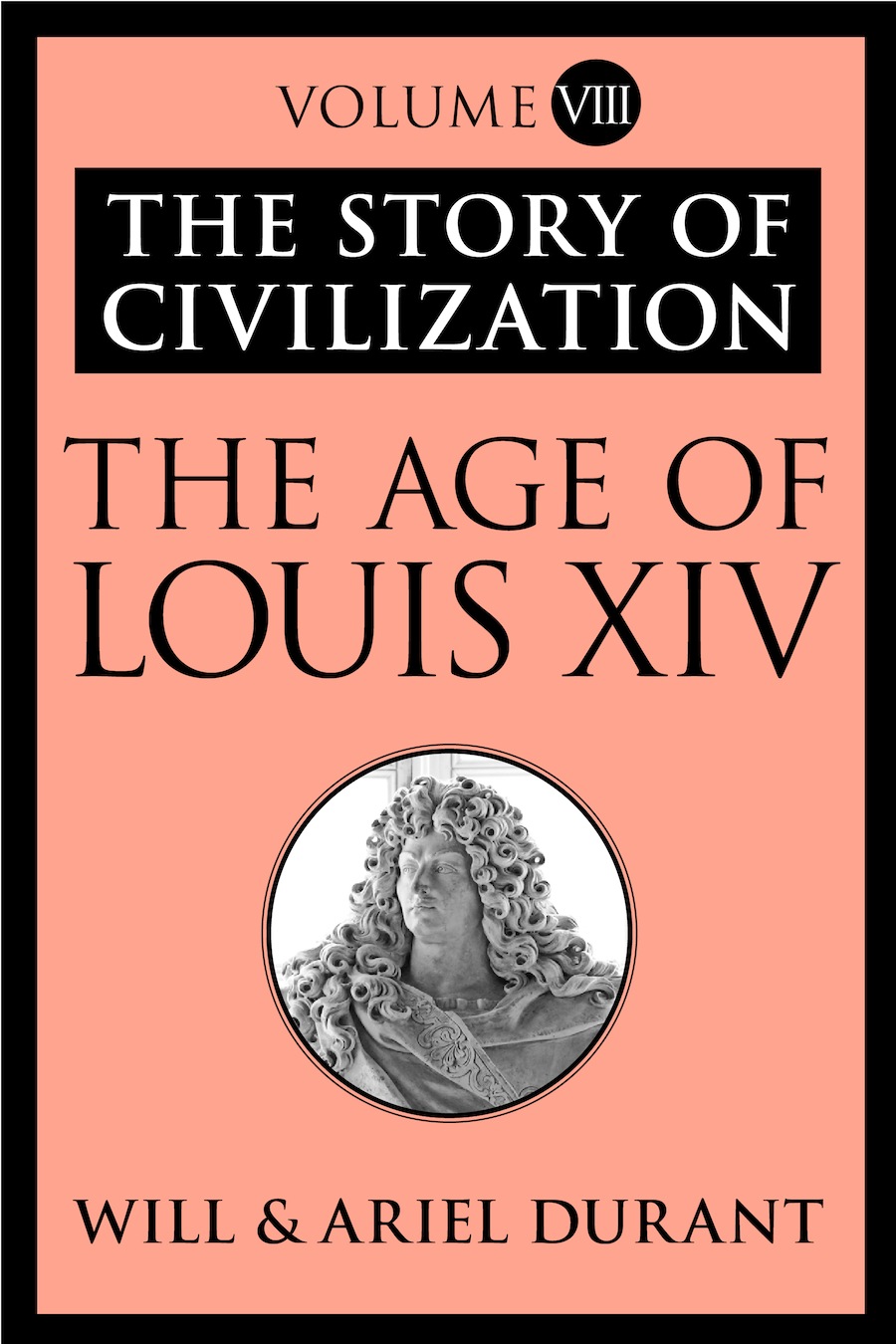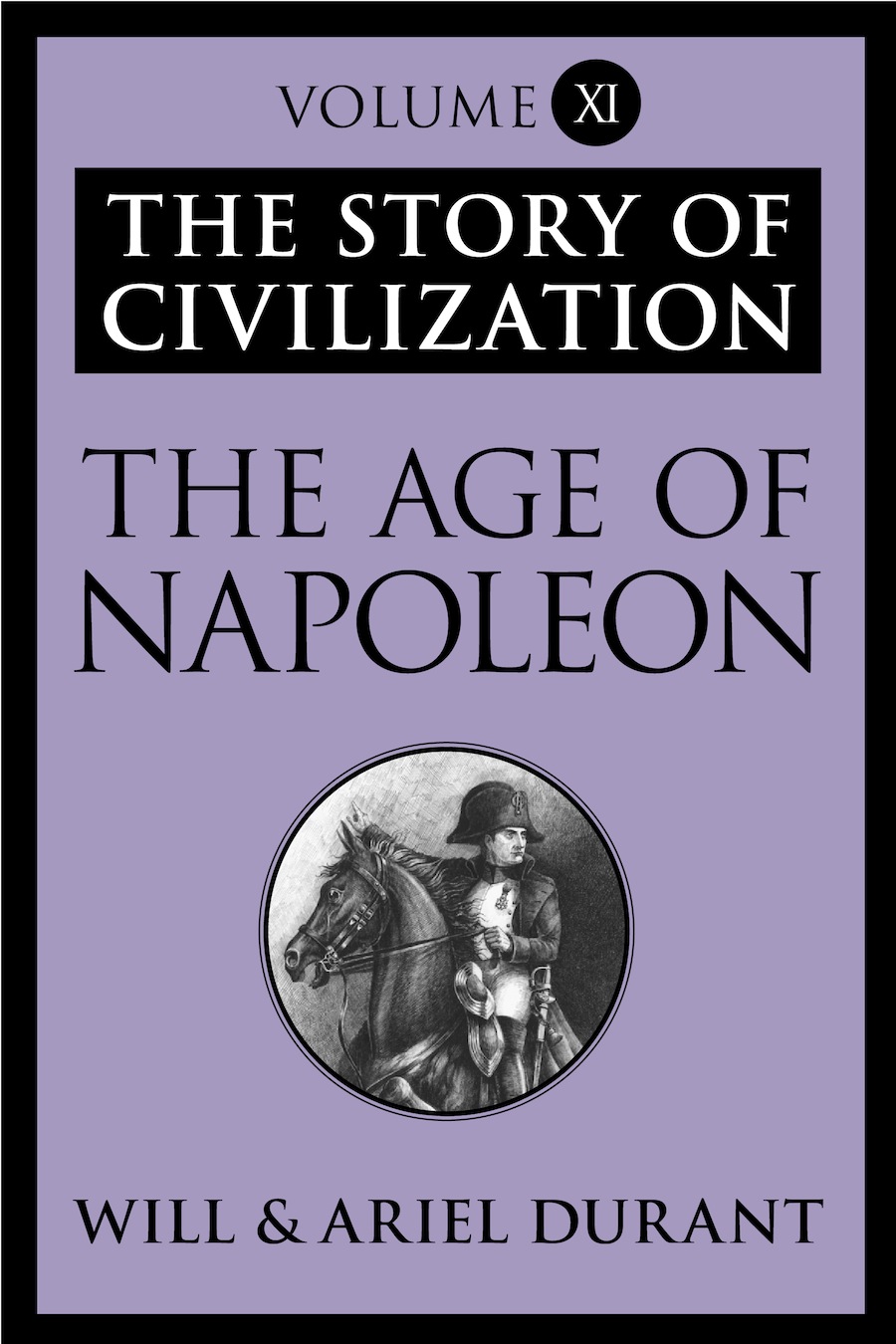принял идею Декарта о том, что идея должна быть истинной, если она «ясна и отчетлива». Он принял и универсализировал картезианский взгляд на мир как на механизм причин и следствий, простирающийся от некоего первобытного вихря вплоть до шишковидной железы. Он признал свой долг перед анализом страстей Декарта. 183
Левиафан» Гоббса в латинском переводе, очевидно, вызвал большой отклик в мыслях Спинозы. Здесь концепция механизма была отработана без жалости и страха. Разум, который у Декарта был отличен от тела и наделен свободой и бессмертием, у Гоббса и Спинозы стал подчиненным универсальному закону и способным лишь на безличное бессмертие или вообще на его отсутствие. Спиноза нашел в «Левиафане» приемлемый анализ ощущений, восприятия, памяти и идей, а также несентиментальный анализ человеческой природы. От общей отправной точки «состояния природы» и «общественного договора» оба мыслителя пришли к противоположным выводам: Гоббс из своих роялистских кругов — к монархии, Спиноза из своего голландского патриотизма — к демократии. Возможно, именно через Гоббса мягкий еврей был приведен к Макиавелли; он называет его «этим самым острым флорентийцем» и еще раз «этим самым гениальным… предвидящий человек». 184 Но он избежал путаницы между правом и силой, признав, что это простительно только для индивидов в «естественном состоянии» и для государств до создания эффективного международного права.
Все эти влияния были закалены и вылеплены Спинозой в структуру мысли, внушающую благоговение своей очевидной логикой, гармонией и единством. В храме были трещины, на которые указывали друзья и враги: Ольденбург умело критиковал начальные аксиомы и предложения «Этики», 185 а Убервег подверг их по-немецки скрупулезному анализу. 186 Логика была блестящей, но опасно дедуктивной; хотя она и основывалась на личном опыте, это был артистизм мышления, опирающийся скорее на внутреннюю последовательность, чем на объективные факты. Доверие Спинозы к своим рассуждениям (хотя какой еще ориентир он мог иметь?) было его единственной нескромностью. Он выражал уверенность в том, что человек может понять Бога, или сущностную реальность и универсальный закон; он неоднократно заявлял о своей убежденности в том, что доказал свои доктрины вне всяких сомнений и неясностей; и иногда он говорил с уверенностью, неподобающей брызгам пены, анализирующим море. Что, если вся логика — это интеллектуальное удобство, эвристический инструмент ищущего ума, а не структура мира? Так неизбежная логика детерминизма сводит сознание (по признанию Хаксли) к эпифеномену — явно лишнему придатку психофизических процессов, которые по механике причин и следствий протекали бы и без него; и все же ничто не кажется более реальным, ничто более впечатляющим, чем сознание. После того как логика сказала свое слово, тайна, tam grande secretum, остается.
Возможно, эти трудности и стали причиной непопулярности философии Спинозы в первом веке после его смерти; но более яростное негодование было направлено против его критики Библии, пророчеств и чудес, а также против его концепции Бога как любящего, но безличного и глухого. Иудеи считали своего сына предателем своего народа; христиане проклинали его как сатану среди философов, антихриста, стремящегося лишить мир всякого смысла, милосердия и надежды. Даже еретики осуждали его. Бейля оттолкнуло мнение Спинозы о том, что все вещи и все люди являются модусами единой и единственной субстанции, причины, или Бога; тогда, говорил Бейль, Бог — реальный агент всех действий, реальная причина всего зла, всех преступлений и войн; и когда турок убивает венгра, это Бог убивает самого себя; это, протестовал Бейль (забывая о субъективности зла), «самая абсурдная и чудовищная гипотеза». 187 В течение десятилетия (1676–86) Лейбниц находился под сильным влиянием Спинозы. Учение о монадах как центрах психической силы, возможно, чем-то обязано omnia quodammodo animata. В свое время Лейбниц заявил, что только одна черта философии Спинозы оскорбляет его — отрицание конечных причин, или провиденциального замысла, в космическом процессе. 188 Когда возмущение против «атеизма» Спинозы стало всеобщим, Лейбниц присоединился к нему как часть своего собственного conatus sese preservandi.
Спиноза сыграл скромную, почти скрытую роль в возникновении французского Просвещения. Лидеры этого горения использовали библейскую критику Спинозы как оружие в войне против церкви, они восхищались его детерминизмом, его натуралистической этикой, его неприятием замысла в природе. Но они были озадачены религиозной терминологией и очевидным мистицизмом «Этики». Мы можем представить себе реакцию Вольтера или Дидро, Гельвеция или д'Ольбаха на такие высказывания, как «Умственная интеллектуальная любовь к Богу есть та самая любовь к Богу, которой Бог любит самого себя». 189
Немецкий дух был более восприимчив к этой стороне мысли Спинозы. Согласно беседе (1780), о которой сообщает Фридрих Якоби, Лессинг не только признался, что был спинозистом на протяжении всей своей зрелой жизни, но и утверждал, что «нет другой философии, кроме философии Спинозы». 190 Именно пантеистическое отождествление природы и Бога взволновало Германию романтического движения после того, как Aufklärung при Фридрихе Великом отжила свой век. Якоби, поборник новой Gefühlsphilosophie, был одним из первых защитников Спинозы (1785); другой немецкий романтик, Новалис, назвал Спинозу «der Gottbetrunkene Mensch»; Гердер думал, что нашел в Этике примирение религии и философии; а Шлейермахер, либеральный теолог, писал о «святом и отлученном Спинозе». 191 Молодой Гете был «обращен» (по его словам) при первом прочтении Этики; отныне спинозизм пронизывает его (несексуальную) поэзию и прозу; отчасти благодаря спокойному воздуху Этики он вырос из дикого романтизма Гетца фон Берлихингена и «Лейдена юных Вертеров» в олимпийское спокойствие своей последующей жизни. Кант на некоторое время прервал этот поток влияния; но Гегель исповедовал, что «чтобы быть философом, надо сначала быть спинозистом»; и он переформулировал Бога Спинозы как «Абсолютный Разум». Вероятно, что-то от спинозовского conatus sese preservandi вошло в «волю к жизни» Шопенгауэра и «волю к власти» Ницше.
Англия в течение столетия знала Спинозу только понаслышке и осуждала его как далекого и ужасного людоеда. Стиллингфлит (1677) неопределенно называл его «поздним автором, [который], как я слышал, пользуется большой популярностью среди многих, кто вопит о чем-либо атеистическом». Шотландский профессор Джордж Синклер (1685) писал о «чудовищном сброде людей, которые, следуя гоббсианскому и спинозианскому принципу, пренебрегают религией и недооценивают Писание». Сэр Джон Эвелин (1690?) говорил о «Трактате теологии и политики» как об «этой позорной книге», «жалком препятствии для искателей святой истины». Беркли (1732), причисляя Спинозу к «слабым и нечестивым писателям», считал его «великим вождем наших современных неверных». 192 В 1739 году агностик Хьюм с опаской относился к «отвратительной гипотезе» «этого знаменитого атеиста», «всеми печально известного Спинозы». 193