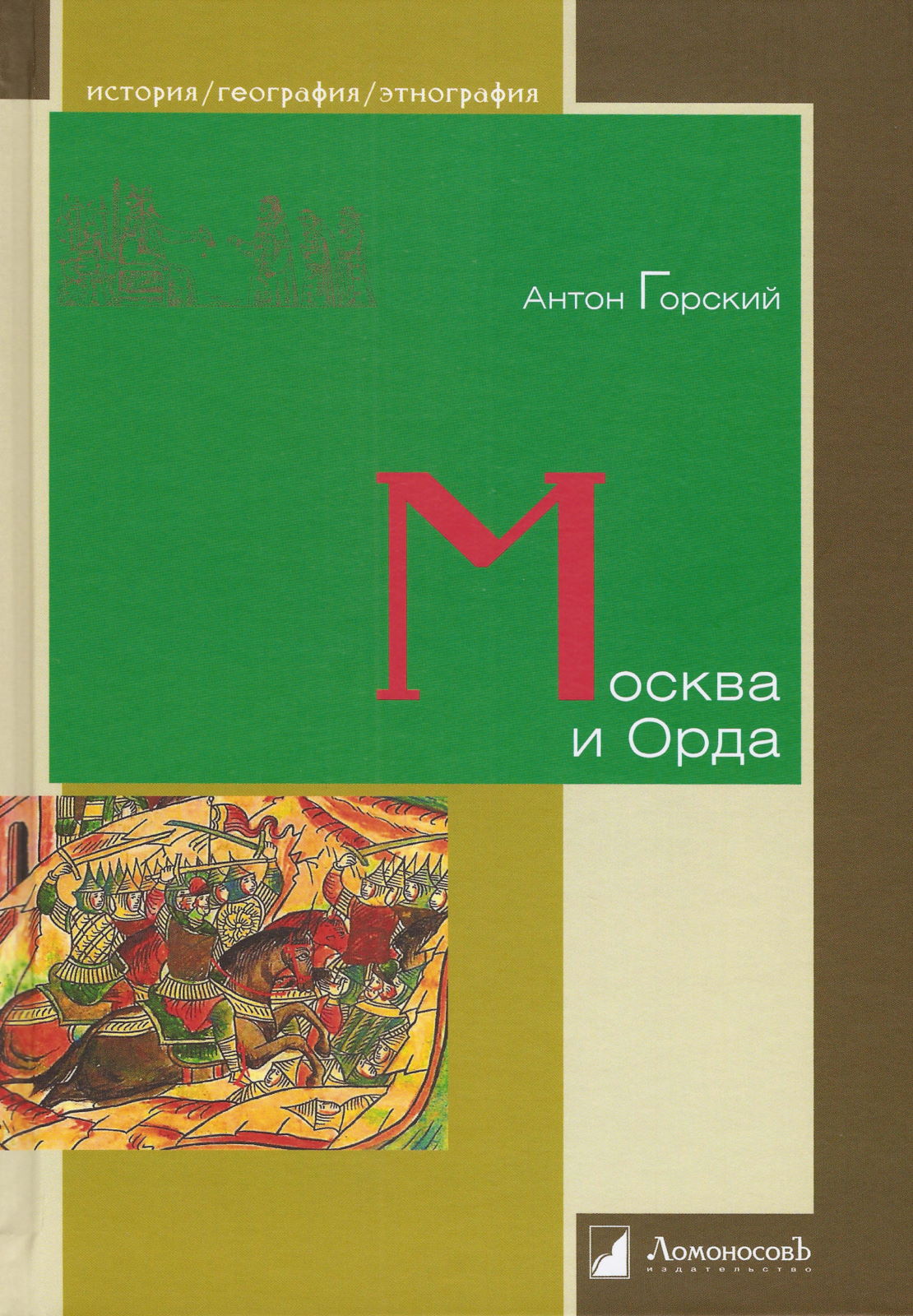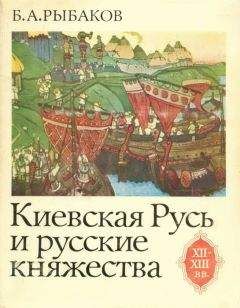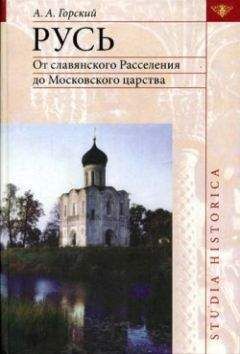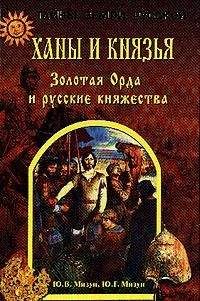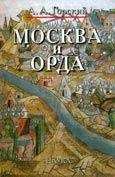издании СГГД, пришел к выводу, что «письмо Едигея» — русский политический памфлет середины XV в. Оно сочинено во время составления летописного «свода 1448 г.», легшего в основу Новгородской Карамзинской и Новгородской IV летописей
{724}.
В суждениях по поводу возможного времени появления текста послания А. П. Григорьев опирался на мнение Я. С. Лурье о составлении так называемого Новгородско-Софийского свода (протографа Новгородской Карамзинской, Новгородской IV и Софийской I летописей) в 1448 г. {725} Но сам Я. С. Лурье позже отказался от такой датировки и отнес появление этого свода к 30-м гг. XV в. {726} Другие авторы датируют его 1423 или 1418 г. {727} Все соображения А. П. Григорьева о связи появления памятника с событиями в Московском великом княжестве в 1446–1447 гг. не имеют поэтому доказательной силы — текст появился гораздо ранее.
Не кажутся убедительными и аргументы автора, призванные показать несоответствие текста послания реалиям 1408 г.
А. П. Григорьев считает ошибочным указание на укрывательство в Москве детей Тохтамыша (погибшего в 1406 г.), так как известие Ибн Арабшаха об уходе Джелал-ад-дина и Керим-Берди «в Россию» {728} не обязательно расценивать как бегство на территорию Московского великого княжества {729}. Но даже если полагать, что в указанном случае речь шла об уходе этих двух Тохтамышевичей на русские земли Великого княжества Литовского, это не значит, что в Москве не мог временно укрываться никто из многочисленных {730} детей Тохтамыша {731}.
А. П. Григорьев видит противоречие между сообщением Рогожского летописца, что Едигей через своего посла уведомил Василия о своем намерении идти на Витовта, и указанием письма на прием в Москве Тохтамышевичей как причину похода. Автор почему-то убежден, что в обоих источниках речь идет об одном уведомлении {732}. Между тем очевидно, что ложная весть о походе на Витовта была отправлена в начале кампании, а изучаемое послание — тогда, когда уже произошла «гибельхристиан» (упоминаемая в его тексте), то есть во время осады Москвы или после отхода от нее {733}.
А. П. Григорьеву кажется, что полон несуразностей раздел послания об отношениях Василия с ханами. Он начинается с упоминания о Тимур-Кутлуке, хотя Василий стал великим князем при Тохтамыше; Булат правил ко времени похода не третий год, а второй; утверждение, что Василий никого не посылал в Орду за период от Тимур-Кутлука до Булата включительно, не соответствует указанию Рогожского летописца и Симеоновской летописи, что послы великого князя в Орде бывали {734}. Однако перечень ханов начинается с Тимур-Кутлука, поскольку речь в нем идет о нелояльности Василия к Орде при ханах — ставленниках Едигея; Тохтамыш таковым не был, и при нем великий князь нелояльности не проявлял {735}. Неточности в указании срока правления Булата (хотя и ее наличие было бы недостаточным для подозрения в фальсификации — не исключена ошибка при переводе письма на русский язык или последующей переписке), вероятно, нет: речь может идти не об абсолютном количестве лет, а о конкретных годах; Булат был на престоле уже летом 1407 г. {736}, то есть, возможно, взошел на него еще в конце 809 г. хиджры, закончившегося 7 июня, а в декабре 1408 г. шел 811 год хиджры {737}. Что касается посольств в Орду, то внимательное прочтение послания убеждает, что и здесь нет отступлений от реальности.
Согласно тексту, при Тимур-Кутлуке Василий «оу царя въ Ордѣ еси не бывалъ, царя еси не видал, ни князей, ни старейших боляръ, ни менших, ни оного еси не присылывалъ», и действительно, в 1396–1400 гг. не фиксируется мирных контактов Москвы с Ордой. В отношении царствования Шадибека сказано только, что «у того еси тако же не бывалъ, ни брата, ни сына ни с которымъ словомъ не посылывал»; о «больших» и «меньших» московских боярах не говорится — очевидно, они в этом время в Орде бывали, через них и поддерживались контакты (установленные, по-видимому, во время посольства Ентяка 1403 г.). Про царствование Булата написано, что Василий у него «тако же еси не бывалъ, ни сына, ни брата и старѣишаго боярина» (пропущено сказуемое «не посылывалъ»). Не названы «меньшие бояре», очевидно, потому, что после выступления Едигея в поход в Орду приехал Юрий, отнесенный именно к этой категории. Таким образом, послание абсолютно точно в описании деталей московско-ордынских контактов в 1396–1408 гг.
А. П. Григорьев считает, что боярин Федор Кошка, упомянутый в послании как сторонник подчинения Орде, не мог быть знаком Едигею, так как последний раз он упомянут в 1389 г., а его сын Иван Федорович, представленный как человек, дурно влияющий на Василия в вопросе отношений с Ордой, не занимал в действительности первенствующего положения при великом князе, так как в Тверском сборнике он упомянут лишь пятым в перечне бояр, оставшихся в 1408 г. сидеть в осаде {738}. Вообще-то Федор Кошка упомянут последний раз под 1393 г. {739} Но дело не в этом: Едигею не обязательно было знать его лично, он мог слышать о добром отношении этого боярина к Орде от татар, служивших прежде Тохтамышу (то есть в период, когда дань исправно уплачивалась). Иван Федорович действительно не упомянут первым среди московских бояр, и не только в Тверском сборнике; в первой духовной грамоте Василия Дмитриевича (1406–1407) его имя стоит шестым в перечне свидетелей, в двух позднейших — четвертым {740}. Но из послания и не следует, что Иван являлся вторым человеком в государстве: его роль в отношениях с Ордой раскрывает указание на занимаемую должность — «казначей», то есть тот, кто ведал финансами и, соответственно, вопросом о выплатах в Орду. Очевидно, и отец Ивана (который в духовной грамоте Дмитрия Донского упомянут также далеко не первым {741}) выполнял те же обязанности, и его «добрая дума к Орде» реализовывалась в исправной выплате выхода.
Приходится признать, что серьезных аргументов против подлинности послания Едигея не выдвинуто. Другое дело, что дошедшие до нас тексты являют собой его варианты, подвергшиеся редактированию. Сопоставление наиболее ранних текстов (в Новгородской Карамзинской и Новгородской IV летописях) с позднейшими вариантами (Архивской, Никоновской летописей и издания СГГД) {742} показало, что в процессе своей литературной истории послание испытало значительные изменения; сводчики относились к нему так же, как к другим летописным текстам, внося исправления и дополнения, сообразуемые со своими представлениями. Поскольку даже наиболее ранние варианты послания — результат по меньшей мере четырехкратного переписывания его текста (при переводе с тюркского на русский, при включении в оригинал Новгородско-Софийского свода, при перенесении в оригиналы Новгородской Карамзинской и Новгородской IV летописей, при перенесении в сохранившийся список первой и