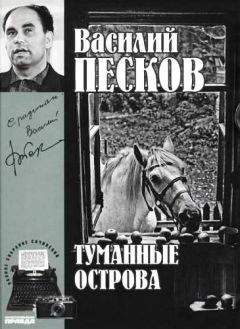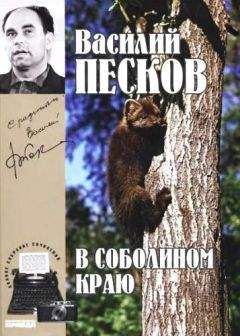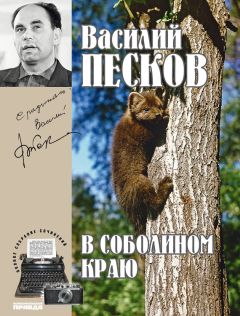Дерево человека переживает. В Воронежском заповеднике я долго стоял над срезом толстого дуба. Дуб разбило грозой. Его спилили, а срезок положили в музей. Огромное деревянное колесо. Если ножки приделать, получится большой круглый стол. По годовым кольцам можно сосчитать, сколько лет стоял дуб на земле. Стал считать, получилось: дуб родился в войну 1812 года. Вот годовое кольцо — смерть Пушкина. Вот конец крепостного права.
Вот кольцо — Ленин родился. Тысяча девятисотый год — начало века. Вот год рождения моего отца. Вот еще годовое кольцо — революция.
Тоненький слой колец у самой коры вместил всю мою жизнь. Вот начало войны… Сколько человеческих бурь пронеслось над землей, а в это время на краю лога, в лесу, стоял дуб. Зеленел каждую весну, бросал листья каждую осень и внутри себя, как живые часы, вел счет времени… Листая записную книжку, я подумал: все, что видел Пришвин, все, что нашло отзвук в его сердце и вылилось на бумагу, продолжает жить. Каждый может увидеть пришвинский лес. Есть места, которые помнят Пришвина, есть деревья, под которыми он ходил, поляны, на которых он сидел у костра. Я выбрал звенигородский лес. Там и теперь на опушке, в деревне Дунино, стоит дом, где он жил…
В московских землях, может быть, и нет лучше лесов, чем эти, звенигородские. Я отыскал лыжню и пошел сквозь сетку частого снега.
Вместе со снегом с берез падали мелкие, похожие на летящих птиц семена. Елки устали держать пуды белого снега. Комки снега падали и пробивали в насте глубокие ямы. Местами ямок так много, что кажется: шел по лесу громадный зверь и оставил следы…
Присыпанный снегом пень. След белки.
Очень возможно, что он сидел на этом пне, многое им написано было прямо в лесу — на пнях, на полянах, пахнувших земляникой. А эта косматая елка на перелеске… Чья-то озорная рука на нижний сук повесила лукошко без дна. Верхушка у елки сломана. Елка растет в ширину и похожа на торговку в растрепанной на ветру шали. Торгует, наверное, шишками. Покупатели: белки и дятлы. Все продала. И всеми забыта.
Ветер набил в зеленые волосы снегу…
Токующий дятел. Холодно, а он все равно знает: время выстукивать песню. По всему лесу сквозь белую кисею льется ровный молочный свет. Дятел окончил песню, пестрым челноком нырнул между елками и уселся прямо над головой у меня. Вылущил шишку и кинул вниз.
Шишка нырнула в снег. Через неделю-другую снег подтает, и миру откроется целый склад шишек, «отработанных» в кузнице дятла…
Встречный в лесу. Идет на широких лыжах мужчина. Топор за поясом. За спиной рябина в пучках.
— Подкормка?
— Да, осину лосям и зайцам рубил. А это рябчикам, косачам…
— Егерь, наверно?
— Нет, учитель французского языка в Звенигороде.
Ну, думаю, этот-то Пришвина знает.
— Михал Михалыч… Это кто же, директор базы? Ах, тот! Слыхал, слыхал. Говорят, охотник был знаменитый…
Расстались. И пошли каждый своей дорогой…
Деревенька в плену у леса. Из-под снега одни крыши торчат. Мальчишки прямо с крыши катаются на салазках. Дым из крайней трубы.
— Я заблудился, как пройти в Дунино?
— К Михал Михалычу, что ли? — спрашивает бабка таким голосом, будто Михаил Михайлович жив и все через эту деревню идут только к нему.
— Знали Пришвина?
— …На этот гвоздь сумки вешал. Вот тут ружье ставил. Тут собака лежала. Из этой кружки молоко пил. Михал Михалыч работал писателем. Все писал и писал. Из леса, бывало, идет — грибов полная сумка. Дай, говорит бывало, молочка выпить. Выпьет, капли с бороды отряхнет. Нет, говорит, нигде молока лучше, чем у тебя. Простой человек был… А в Дунино вот так, прямиком четыре версты, а если по квартальным дорогам, то шесть. Держись, чтоб ветерок ударял в левую сторону…
Всегда кажется: нежилой дом хранит какую-то тайну. Высокие ели стерегут оранжевый дом с забитыми окнами. По следам видно: к крыльцу подбегал заяц, потоптался, заковылял в лес. У куста на охапке хвороста прыгает, задрав хвост, крошка-птица крапивник. Свищет поползень на дуплистой липе. Каждый год с последним снегом он приезжал сюда из Москвы.
Уезжал с первым зазимком. Ему нужно было это лесное жилье. С крыльца он каждое утро видел, как поднимается солнце. Он говорил, что непременно должен видеть, как поднимается солнце.
Дом Пришвина в Дунине.
От крыльца начинается лес. Он не мог жить без леса. «Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты».
Он тут работал. Столик и скамейка под елками. Он мыслил и писал свои строчки под пение птиц. Об его книжку ударяла капель, а солнце сушило страницы. Сейчас на скамейках подушки снега. Муравейник, над которым он мог часами простаивать, снежной горой возвышается около елки. Зеленый дятел попытался забраться вглубь муравейника, наследил, исчертил снег крыльями и раздумал залезать в глубину, «…в лесу… непременно во всякую минуту совершается хоть что-нибудь да все-таки новое, и это небывалое прибавляется постоянно к бывалому, и этим, наверно, весь мир растет».
Так он писал. Каждая ветка, каждая песня, каждый шорох, каждая перемена в лесу были для него истоком большой поэзии. Стоят у дома под елками два пенька от скамейки. Они похожи сейчас на грибы с белыми снежными шапками.
Вот что об этих столбиках он записал в дневнике:
«Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один столбик. Мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать. Этого друга моего вы не увидите, и я сам его не вижу, а только знаю, что он есть: это мой читатель, кому я пишу и без кого я не мог бы ничего написать…»
А попытаемся все-таки увидеть его читателя.
Дом заперт и будет заперт до лета, пока сюда не вернется вдова писателя, хранительница всего им написанного Валерия Дмитриевна Пришвина. Закрыта калитка. Но поглядите, сколько следов от лыж к калитке этого дома. Это читатели его, очарованные весною света, не прошли мимо, остановились поклониться дому под елками.
А вот три письма в этот дом.
«Я воспитатель детского сада. Люблю детей, люблю природу, все доброе, достойное в жизни и саму жизнь. Пришвина знала как детского писателя. Читала ребятишкам его рассказы. Витя помог мне лучше узнать все, что написал Михаил Михайлович. И я узнала большую радость и много мудрого. Хорошо понимаю теперь, отчего у нас с Витей все хорошо получилось. Меня оставил муж с двумя ребятишками, и я думала, что конец жизни. В те страшные дни встретился мне Витя, молодой человек двадцати трех лет. И я узнала, что такое теплота, добро и ласка. И я дети мои как будто на свет народились с этим человеком.
Сейчас у нас растет третий сын, назвали Егором. Хорошо живем. Витя работает и учится на втором курсе института. Я по-прежнему с ребятишками. Живем дружно и ладно. Всегда во всем между нами совет…
Думаю: кому же за эту радость спасибо сказать?
Кто Витю таким сделал? Его спрашиваю — улыбается, говорит: Пришвин. Вот и решила вам написать, потому что вы жили рядом с этим большим человеком и поймете меня.
Ставрополье. Галина Чишко».
И еще письмо. «Набрел на подарок для музея Пришвина. Встретился мне любопытный человек, русский, бывший эмигрант во Франции.
В 1942 году он отказался служить в гитлеровской армии и угодил в немецкий концлагерь. Он мне рассказал, как за колючей проволокой они увидели кусок книги Михаила Михайловича. С риском достали палкой, переписывали, учили наизусть. У него и сейчас есть «Птичник», переписанный там на немецкой кальке…
Ярославль. А. Семенов».
И еще письмо, только что полученное из Ленинграда. В семье случилось горе: погиб в море тридцатичетырехлетний капитан корабля Дмитрий Тихонов. Сестра, перебиравшая книги погибшего, в одной из них нашла листок со стихами.
Когда у Полярного круга
Темно в снегопаде ночном.
Беру я, как верного друга,
Покойного Пришвина том.
Такое знакомое место:
В воде по колено кусты,
Роняют березы-невесты
На землю куски бересты.
Пускай озверело колотит
О борт штормовая волна.
Я вижу на топком болоте
Ковер из кукушкина льна.
На дальний огонь деревушки
Иду не спеша через лес,
Где мачтовых сосен верхушки
Поднялись до самых небес.
Под сумрачным небом чужбины,
Пока мы не в нашем порту,
Земли нашей русской картины
Со мной у меня на борту.
За силу великую эту,
Сокрытую в слове простом,
Вожу я по белому свету
Волшебника Пришвина том.
У Пришвина много читателей. И число их с каждым годом будет расти. Мир, открытый этим человеком для нас, может быть, одно из самых больших и нужных человеку открытий в последние пятьдесят лет. И лучшая наша благодарность писателю, лучшая память о нем — открытая книга на нашем столе.