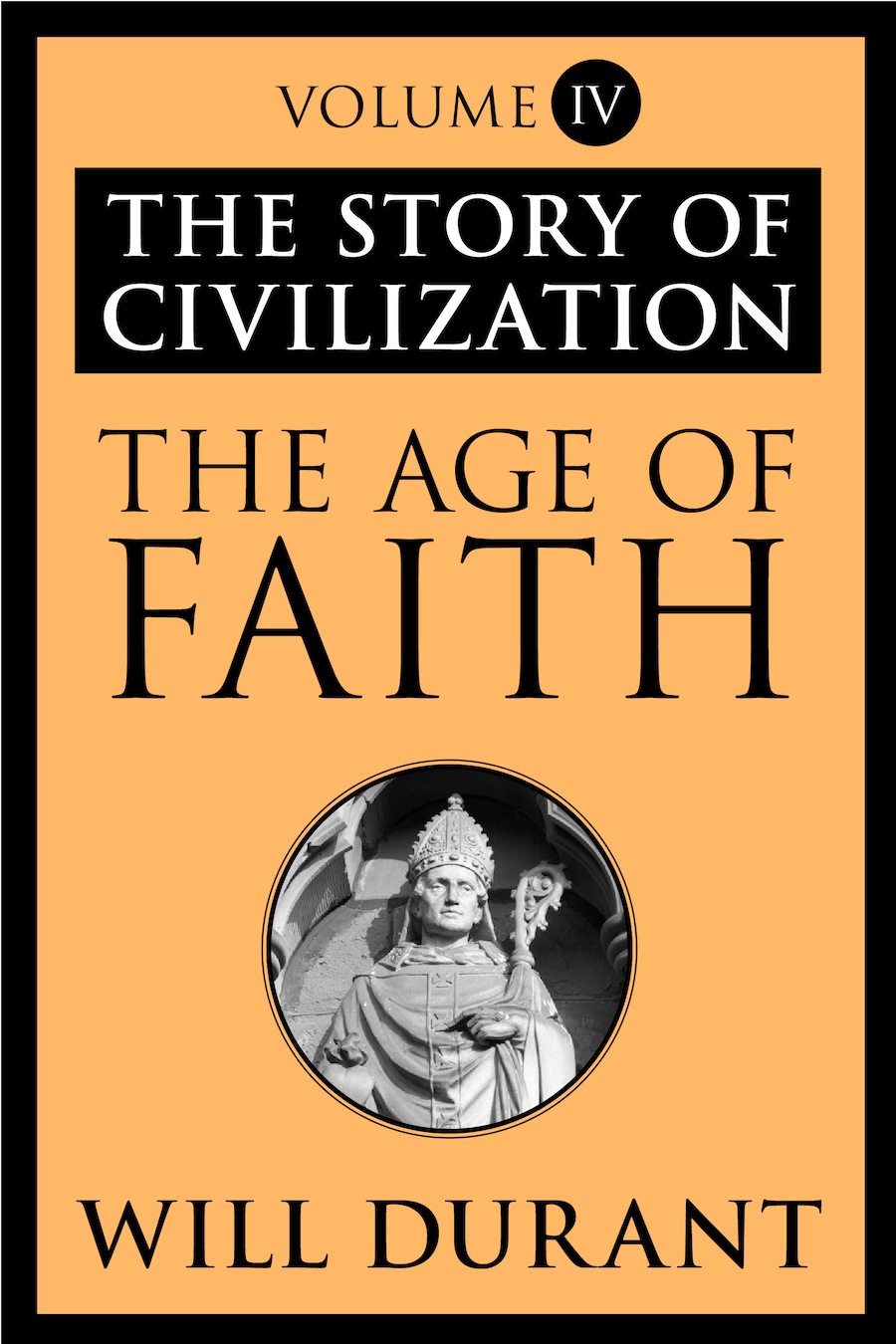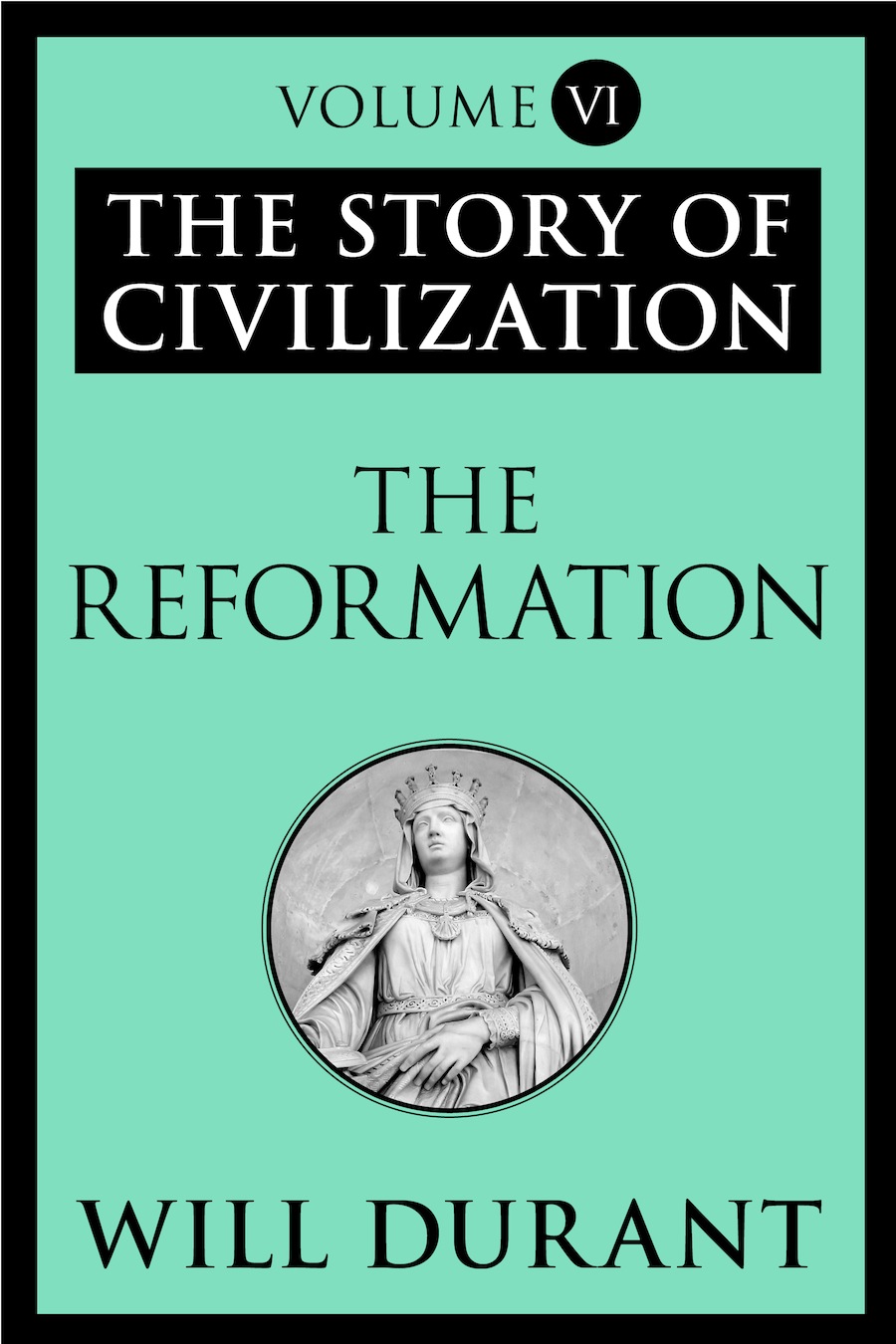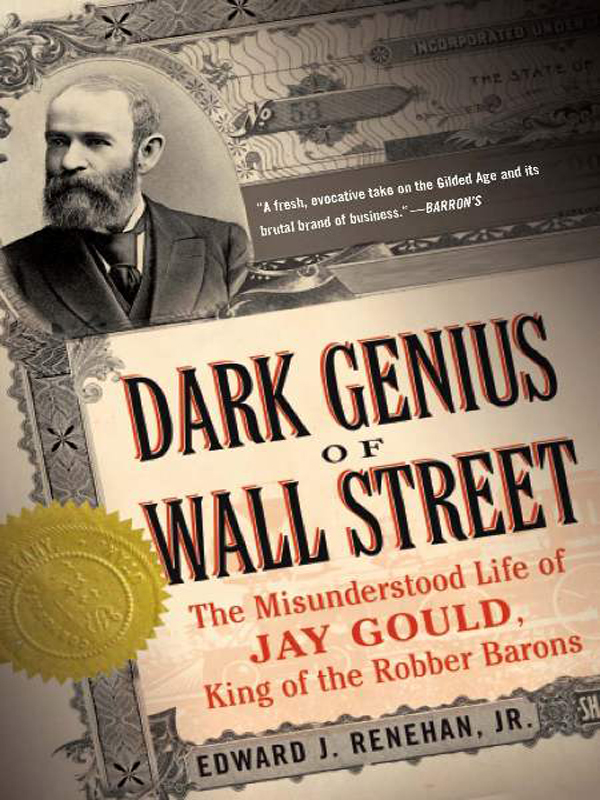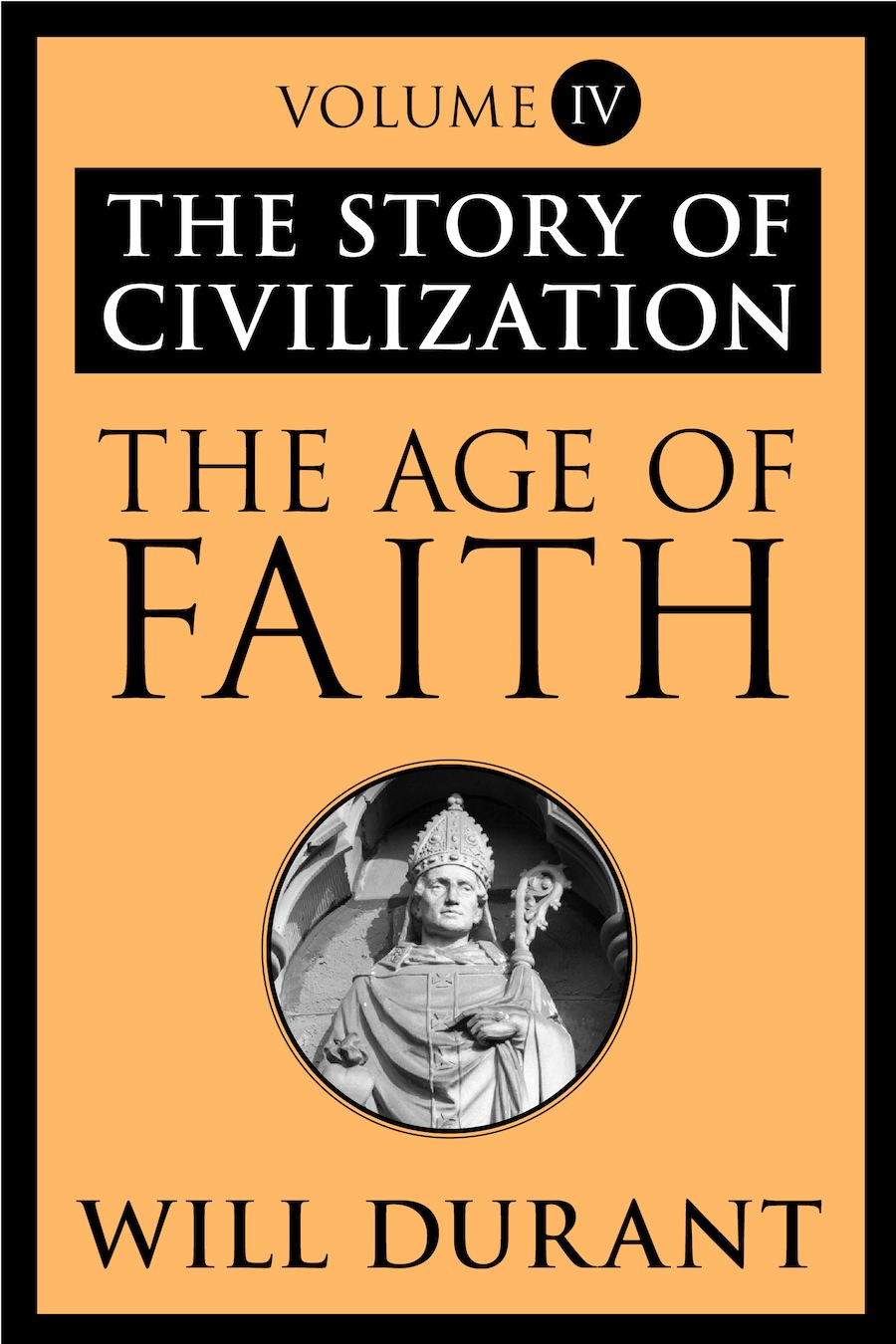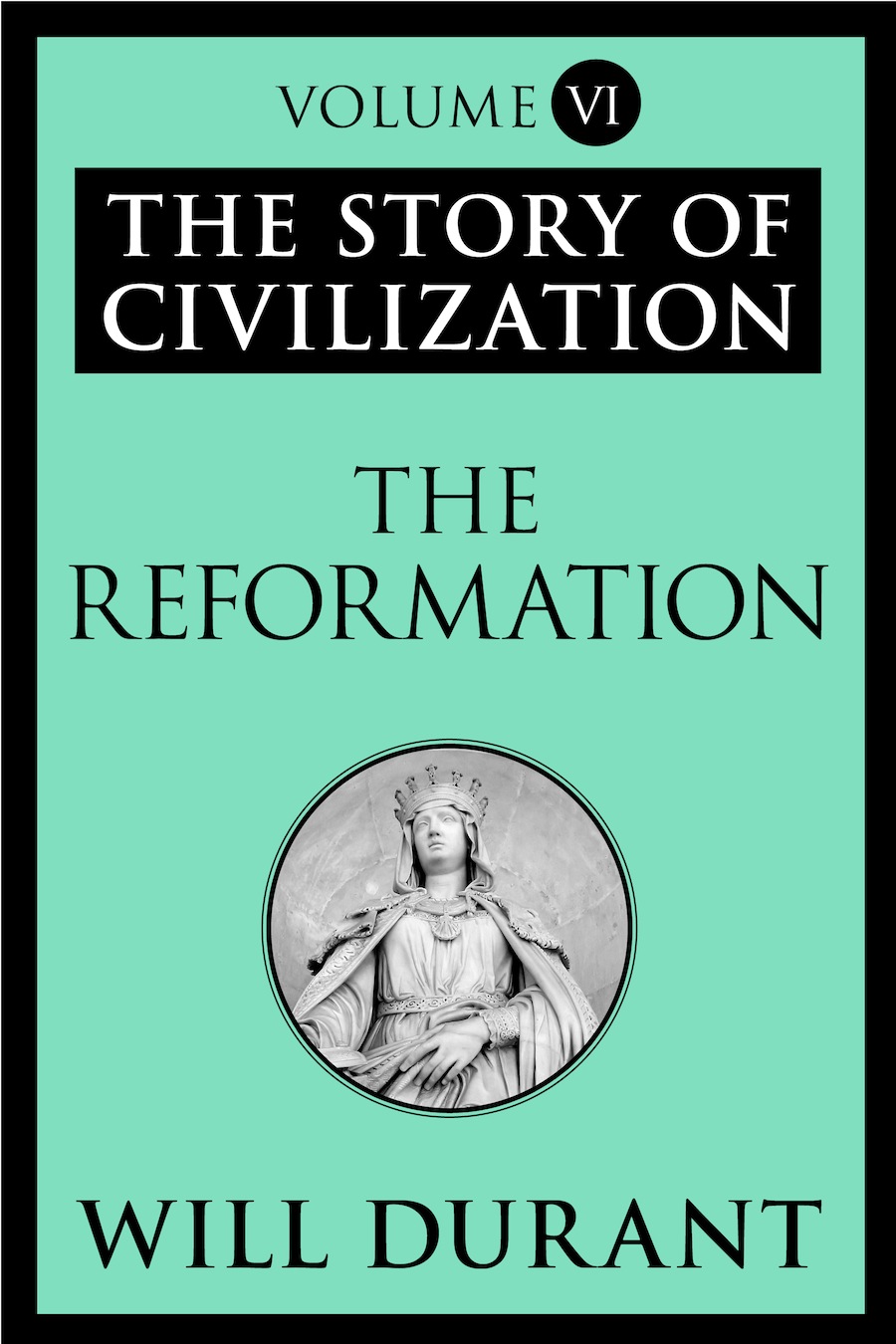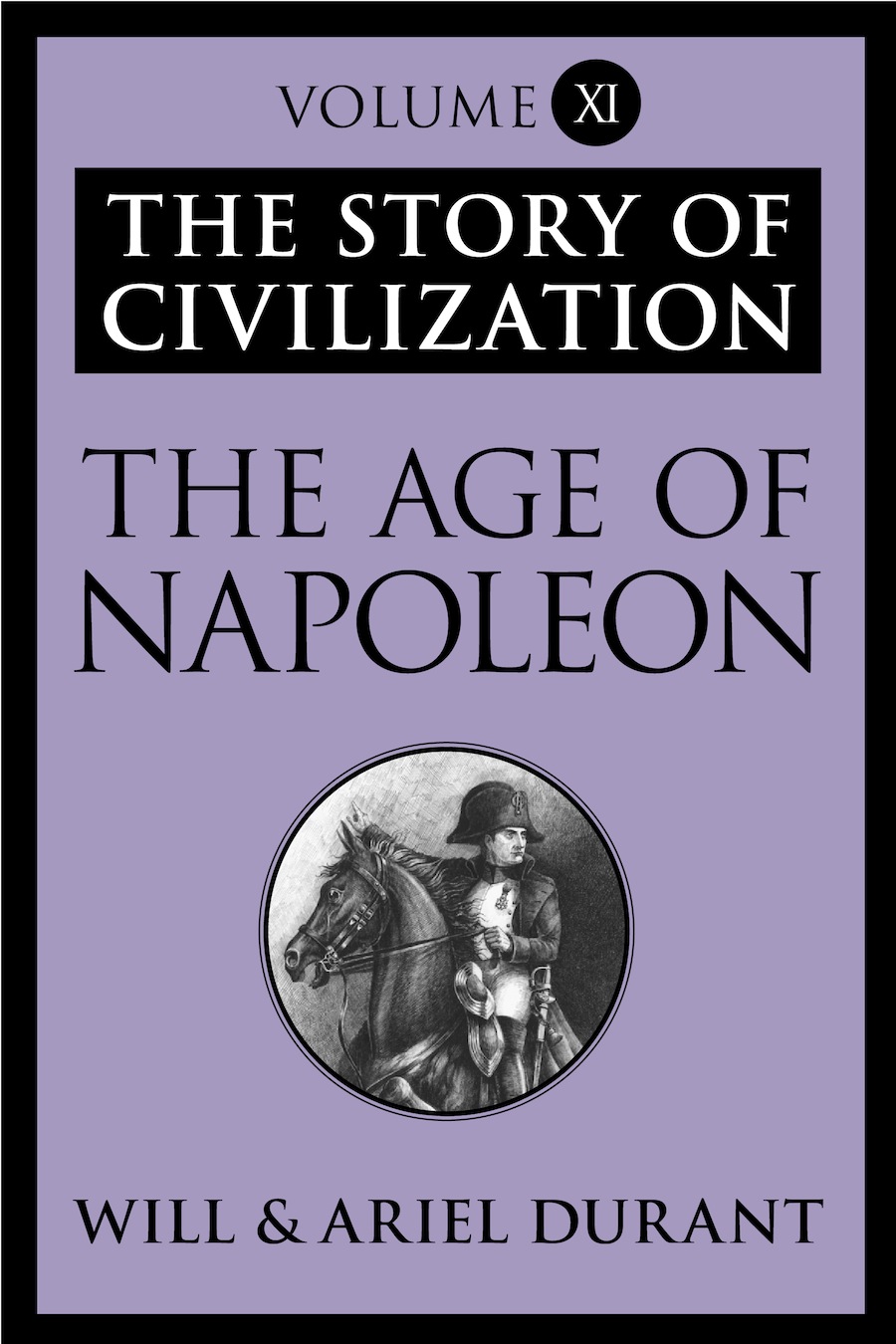(«практический разум» Канта), мудрее отказаться от томистской попытки доказать теологию с помощью философии и принять догматы веры на основании авторитета Библии и Церкви.145 Мы не можем познать Бога, но мы можем любить Его, а это лучше, чем знать.146
В психологии Данс — «реалист» в своей собственной тонкой манере: универсалии объективно реальны в том смысле, что те идентичные черты, которые разум абстрагирует от похожих объектов для формирования общей идеи, должны быть в объектах, иначе как бы мы могли их воспринимать и абстрагировать? Он соглашается с Фомой в том, что все естественные знания происходят из ощущений. В остальном он расходится с ним по всей психологической линии. Принципом индивидуации является не материя, а форма, причем форма только в строгом смысле этого слова (haecceitas) — особые качества и отличительные признаки отдельного человека или вещи. Факультеты души не отличаются ни друг от друга, ни от самой души. Основной способностью души является не понимание, а воля; именно воля определяет, к каким ощущениям или целям должен стремиться интеллект; свободна только воля (voluntas), а не суждение (arbitrium). Аргумент Фомы о том, что наша жажда продолжения жизни и совершенного счастья доказывает бессмертие души, слишком велик, поскольку его можно применить к любому зверю в поле. Мы не можем доказать личное бессмертие; мы должны просто верить.147
Как францисканцы утверждали, что видят в Фоме победу Аристотеля над Евангелиями, так доминиканцы могли бы увидеть в Дунсе триумф арабской философии над христианской: его метафизика — это метафизика Авиценны, его космология — это космология Ибн Габироля. Но трагический и основной факт в Скотусе — это его отказ от попытки доказать основные христианские доктрины с помощью разума. Его последователи пошли дальше и вывели один за другим пункты веры из сферы разума, и так умножили его различия и тонкости, что в Англии «дунсмен» стал означать дурака с волосами, тупого софиста, тупицу. Те, кто научился любить философию, отказались подчиняться теологам, отвергавшим философию; две науки поссорились и разошлись, а отказ от разума в пользу веры привел к отказу от веры в пользу разума. Так закончилось для эпохи веры это смелое приключение.
Схоластика была греческой трагедией, заклятый враг которой таился в самой ее сути. Попытка утвердить веру с помощью разума неявно признавала авторитет разума; признание Дунсом Скотом и другими, что вера не может быть утверждена с помощью разума, разбило схоластику и настолько ослабило веру, что в XIV веке вспыхнул бунт по всей доктринальной и церковной линии. Философия Аристотеля была греческим подарком латинскому христианству, троянским конем, скрывавшим тысячу враждебных элементов. Эти семена Ренессанса и Просвещения были не только «местью язычества» за христианство, но и невольной местью ислама; захваченные в Палестине и изгнанные почти из всей Испании, мусульмане передали свою науку и философию в Западную Европу, и она оказалась разрушительной силой; именно Авиценна и Аверроэс, а также Аристотель заразили христианство зародышами рационализма.
Но никакая перспектива не может затмить великолепие схоластического предприятия. Это было начинание, смелое и опрометчивое, как юность, и имевшее недостатки юности — излишнюю самоуверенность и любовь к спорам; это был голос новой Европы-подростка, заново открывшей для себя захватывающую игру разума. Несмотря на охотящиеся за ересью соборы и инквизиторов, схоластика в течение двух веков своего возвышения наслаждалась и демонстрировала свободу исследований, мысли и преподавания, едва ли превзойденную в современных университетах Европы. С помощью юристов двенадцатого и тринадцатого веков она отточила западный ум, выковав инструменты и термины логики, а также такие тонкие рассуждения, которые не могли превзойти ничто в языческой философии. Разумеется, эта способность к аргументации доходила до крайности и порождала спорное многословие и «схоластическое» причесывание, против которого восставали не только Роджер и Фрэнсис Бэкон, но и само Средневековье.* Однако хорошее в этом наследстве значительно перевешивало плохое. «Логика, этика и метафизика, — говорил Кондорсе, — обязаны схоластике точностью, неизвестной самим древним»; и «именно школярам, — говорил сэр Уильям Гамильтон, — вульгарные языки обязаны той точностью и аналитической тонкостью, которыми они обладают».149 Особое качество французского ума — его любовь к логике, его ясность, его изящество — в значительной степени сформировалось благодаря расцвету логики в школах средневековой Франции.150
Схоластика, которая в семнадцатом веке должна была стать препятствием для развития европейского разума, в двенадцатом и тринадцатом веках стала революционным прогрессом, или реставрацией, в человеческой мысли. «Современная» мысль начинается с рационализма Абеляра, достигает своего первого пика в ясности и предприимчивости Фомы Аквинского, терпит мимолетное поражение в Дунсе Скоте, вновь поднимается с Оккамом, захватывает папство в лице Льва X, захватывает христианство в лице Эразма, смеется в лице Рабле, улыбается в лице Монтеня, буйствует в лице Вольтера, торжествует с сардонизмом в лице Юма и оплакивает свою победу в лице Анатоля Франса. Именно средневековый порыв к разуму стал основой этой блестящей и безрассудной династии.
ГЛАВА XXXVII. Христианская наука 1095–1300 гг.
I. МАГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Римляне во времена своего императорского расцвета ценили прикладную науку, но почти забыли чистую науку греков. Уже в «Естественной истории» старшего Плиния на каждой второй странице мы находим якобы средневековые суеверия. Равнодушие римлян и христиан практически перечеркнуло поток науки задолго до того, как нашествия варваров замусорили пути передачи культуры обломками разрушенного общества. Все, что осталось от греческой науки в Европе, было похоронено в библиотеках Константинополя, и этот остаток пострадал при разграблении в 1204 году. В IX веке греческая наука перекочевала через Сирию в ислам и всколыхнула мусульманскую мысль, вызвав одно из самых замечательных культурных пробуждений в истории, в то время как христианская Европа изо всех сил пыталась вырваться из варварства и суеверий.
Наука и философия на средневековом Западе должны были расти в такой атмосфере мифов, легенд, чудес, предзнаменований, демонов, прорицаний, магии, астрологии, гаданий и колдовства, какая бывает только в эпохи хаоса и страха. Все это существовало в языческом мире, существует и сейчас, но сдержано цивилизованным юмором и просвещением. Они были сильны в семитском мире и восторжествовали после Аверроэса и Маймонида. В Западной Европе с шестого по одиннадцатый век они прорвали плотины культуры и захлестнули