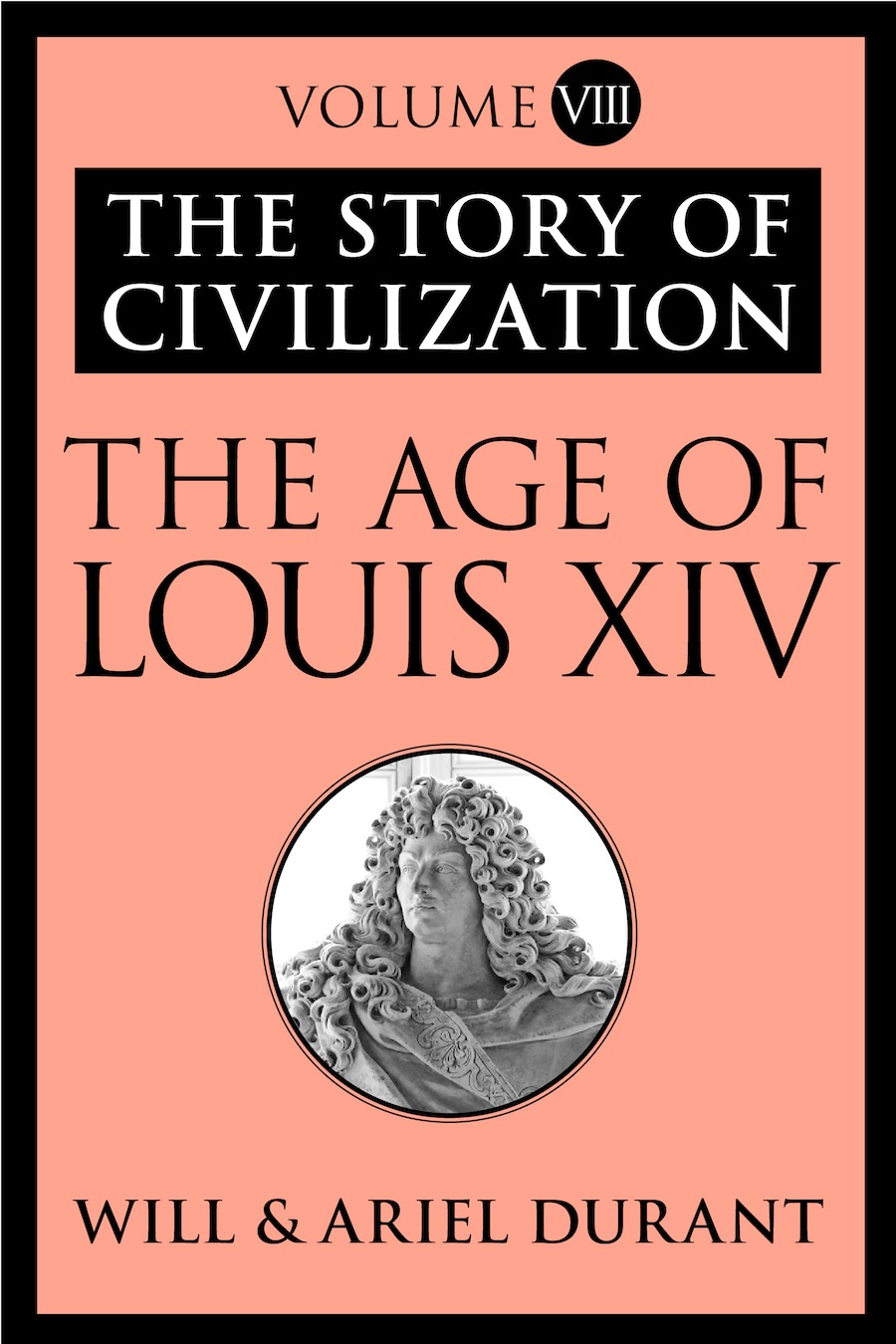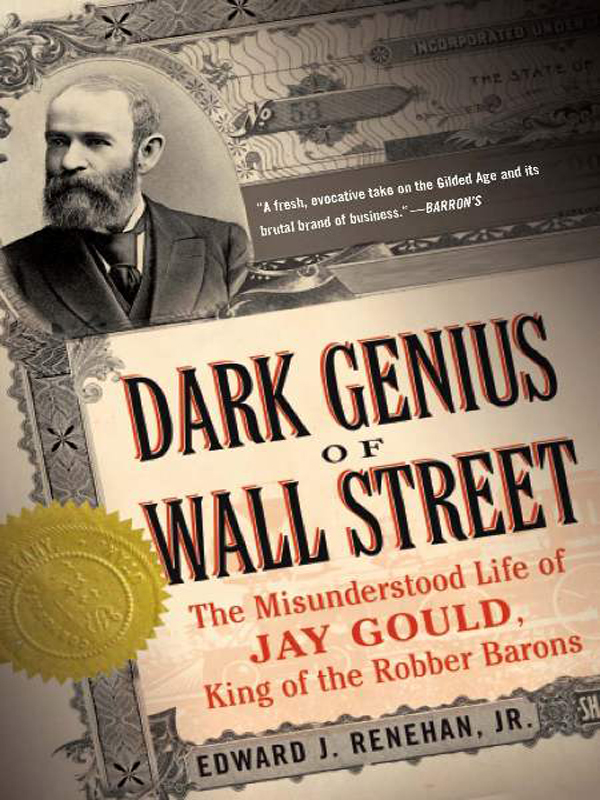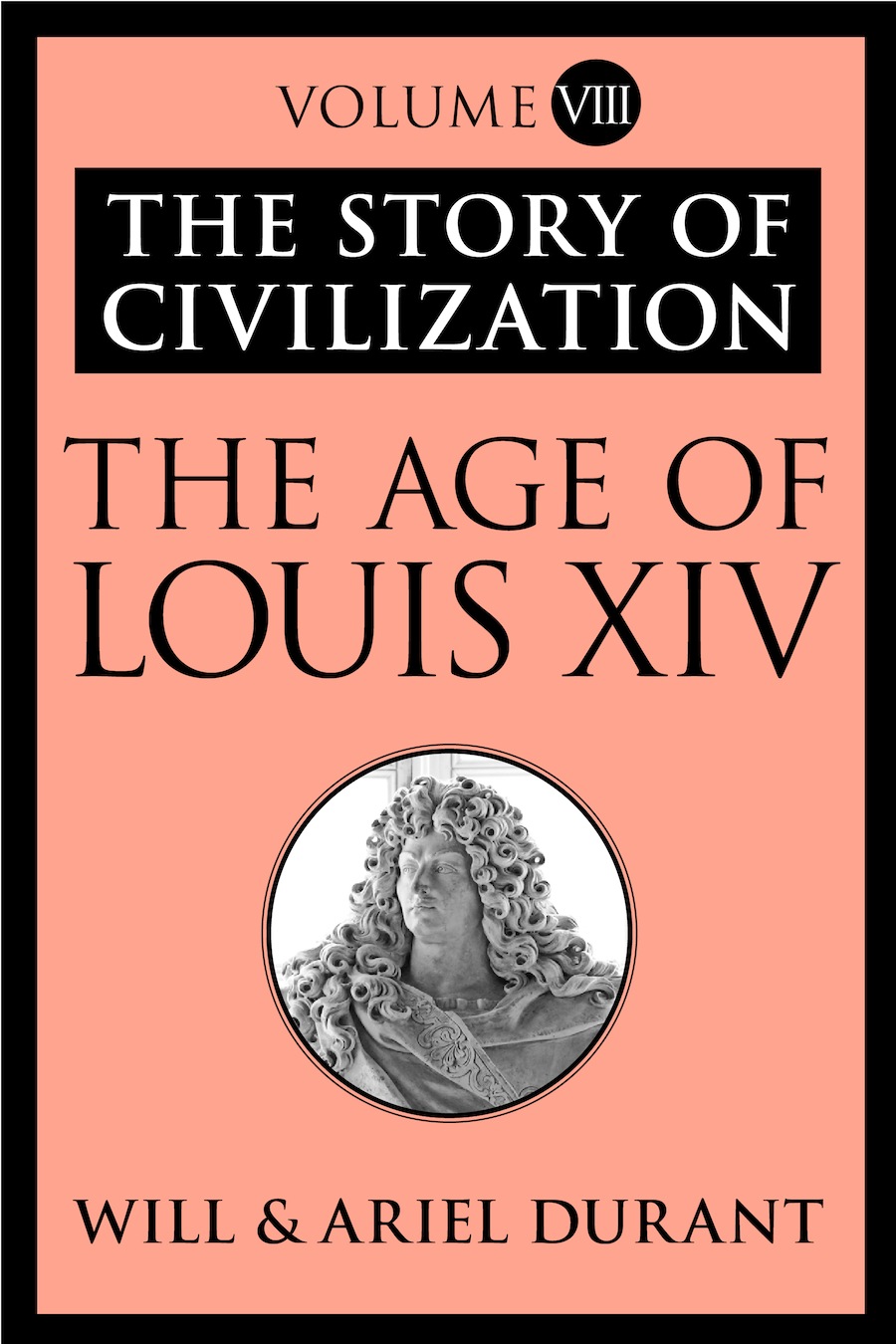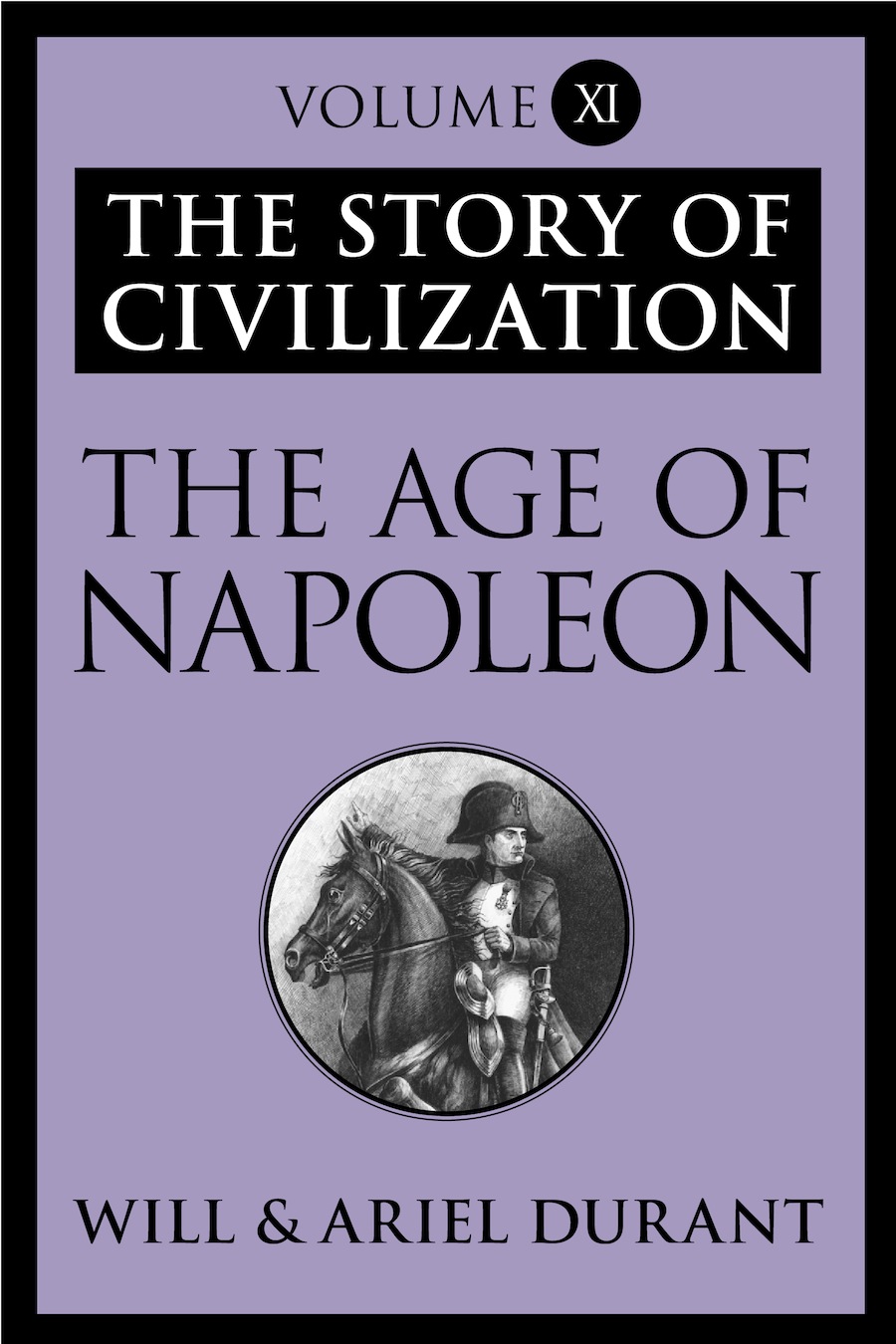двором короля, та же классическая точность правил, которая сформировала стиль Боссюэ, Фенелона, Ларошфуко, Расина и Буало, — все это диктовал Словарь Академии. Периодически он пересматривался и переиздавался, пытаясь сохранить порядок в живом росте, его классическая цитадель неоднократно подвергалась нападению, а зачастую и завоеванию, со стороны заблуждений народа, терминологии наук, жаргона ремесленников, уличного говора; словарь, как история и правительство, — это соединение сил между весом многих и властью немногих. Что-то было потеряно в жизненной силе языка, многое было приобретено в чистоте, точности, элегантности и престиже. Он не породил буйного и беспутного Шекспира, но стал самым уважаемым языком в Европе, средством дипломатии, речью аристократов. В течение столетия и более Европа стремилась быть французской.
II. ПОСТСКРИПТУМ КОРНЕЛЯ: 1643–84
Язык достиг своего зенита в гибких диалогах Мольера, в звучной риторике Корнеля и мелодичной утонченности Расина.
Когда Людовик стал королем, Корнель был в расцвете сил — ему было тридцать семь лет. Он начал правление с пьесы Le Menteur, которая подняла тон французской комедии, как Le Cid поднял тон трагедии. После этого он ставил трагедии почти ежегодно: Родогун (1644), Теодор (1645), Гераклий (1646), Дон Санчо д'Арагон (1649), Андромеда (1650), Никомед (1651), Пертарит (1652). Несколько из них были хорошо приняты, но, по мере того как каждая из них наступала на пятки своей предшественнице, становилось очевидно, что Корнель работает слишком поспешно и что сок его гения иссякает. Его умение изображать благородство терялось в реке споров, его красноречие побеждало само себя продолжением. «У моего друга Корнеля, — говорил Мольер, — есть знакомый, который вдохновляет его на самые прекрасные стихи в мире. Но иногда этот знакомый оставляет его на произвол судьбы, и тогда ему приходится очень несладко». 5 Пертарит был принят настолько неблагоприятно, что Корнель на шесть лет отошел от театра (1653–59). С критиками он разобрался в серии «Экзаменов» и в трех «Рассуждениях о драматической поэзии»; они показали, что его критический талант рос по мере падения поэтического дарования; они стали источником современной литературной критики и служили образцами, когда Драйден защищал свою посредственную поэзию в превосходной прозе.
В 1659 году заботливый подарок Фуке вернул Корнеля на сайт. Эдип получил некоторое признание после похвалы молодого короля; но последующие произведения — Серторий (1662), Софонисб (1663), Оттон (1664), Агезилас (1666), Аттила (1667) — были настолько посредственными, что Фонтенель с трудом мог поверить, что они написаны Корнелем; а Буало выдал жестокую эпиграмму: «После Агесиласа, hélas! Mais après l'Attila, holà! — После Агесиласа, увы! Но после Аттилы — стоп!». Мадам Генриетта, обычно отличавшаяся добротой, усугубила ситуацию, пригласив Корнеля и Расина, каждый с ведома другого, написать пьесу на одну и ту же тему — о Беренике, еврейской принцессе, в которую влюбился будущий император Тит. Пьеса Расина «Береника» была поставлена в Бургундском доме 21 ноября 1670 года, почти через пять месяцев после смерти Генриетты, и имела полный успех; пьеса Корнеля «Тит и Береника» была поставлена через неделю труппой Мольера и была принята холодно. Неудача сломила дух Корнеля. Он снова попытался поставить «Пульхерию» (1672) и «Сюрену» (1674); они тоже не увенчались успехом, и оставшееся десятилетие своей жизни Корнель провел в тихом и мрачном благочестии.
Он был настолько небрежен в деньгах, что, несмотря на пенсию в две тысячи ливров и другие подарки от Людовика XIV, закончил свою жизнь в нищете. По какой-то оплошности пенсия была прервана на четыре года; затем Корнель обратился к Кольберу, который восстановил ее; но после смерти Кольбера она снова прекратилась. Буало, узнав об этом, сообщил Людовику XIV и предложил отказаться от своей собственной пенсии в пользу Корнеля. Король немедленно выслал двести ливров старому поэту, который вскоре после этого умер (1684) в возрасте семидесяти восьми лет. Во Французской академии соперник, сменивший его и уже поднявший французскую драму и поэзию на вершину истории, произнес над ним хвалебную речь, запоминающуюся щедростью и красноречием.
III. РАСИН: 1639–99
Как и Мольер, он принадлежал к среднему классу. Его отец был контролером государственной соляной монополии в Ла-Ферте-Милоне, примерно в пятидесяти милях к северо-востоку от Парижа; мать была дочерью адвоката из Виллерс-Коттерец. Она умерла в 1641 году, когда Жану еще не исполнилось и двух лет; его отец умер годом позже, и мальчик воспитывался дедушкой и бабушкой по отцовской линии. В семье были сильны янсенистские настроения; бабушка и тетя вступили в сестринское братство Порт-Рояля, а сам Жан в шестнадцать лет был отправлен в маленькую школу, которую содержали солитеры. Он получил от них интенсивное обучение религии и греческому языку — двум влияниям, которые должны были поочередно доминировать в его жизни. Он был очарован пьесами Софокла и Еврипида и сам перевел некоторые из них. В парижском Collège d'Harcourt он изучил философию и классику, а также открыл для себя таинственные чары молодой женщины, новой и использованной. В течение двух лет он жил на набережной Гранд-Огюстен у своего кузена Николя Витарта, который перемещался между Порт-Роялем и театром. Расин услышал несколько пьес, написал одну и представил ее Мольеру. Она оказалась недостаточно хороша для постановки, но Мольер все же дал ему сто луидоров и призвал попробовать еще раз. Расин решил заняться литературной деятельностью.
Встревоженные этим безумием и сообщениями о его похождениях, родственники отправили его в Юзес на юге Франции (1659) в качестве дублера к дяде, который, будучи каноником собора, обещал ему церковную милость, если он изучит теологию и будет рукоположен. В течение года молодой поэт, все еще кипящий Парижем, прикрывал свой огонь черной мантией и читал святого Фому Аквинского, добавляя понемногу Ариосто и Еврипида. Теперь он писал Лафонтену:
Все женщины великолепны… corpus solidum et succi plenum [плоть твердая и сочная]; но поскольку первое, что мне было сказано, — это быть начеку, я не хочу больше говорить о них. Кроме того, было бы осквернением для дома облагодетельствованного священника, в котором я живу, вести долгие рассуждения на эту тему; domus mea domus orationis [мой дом — дом молитвы]. Мне сказали: «Будь слеп». Если я не могу