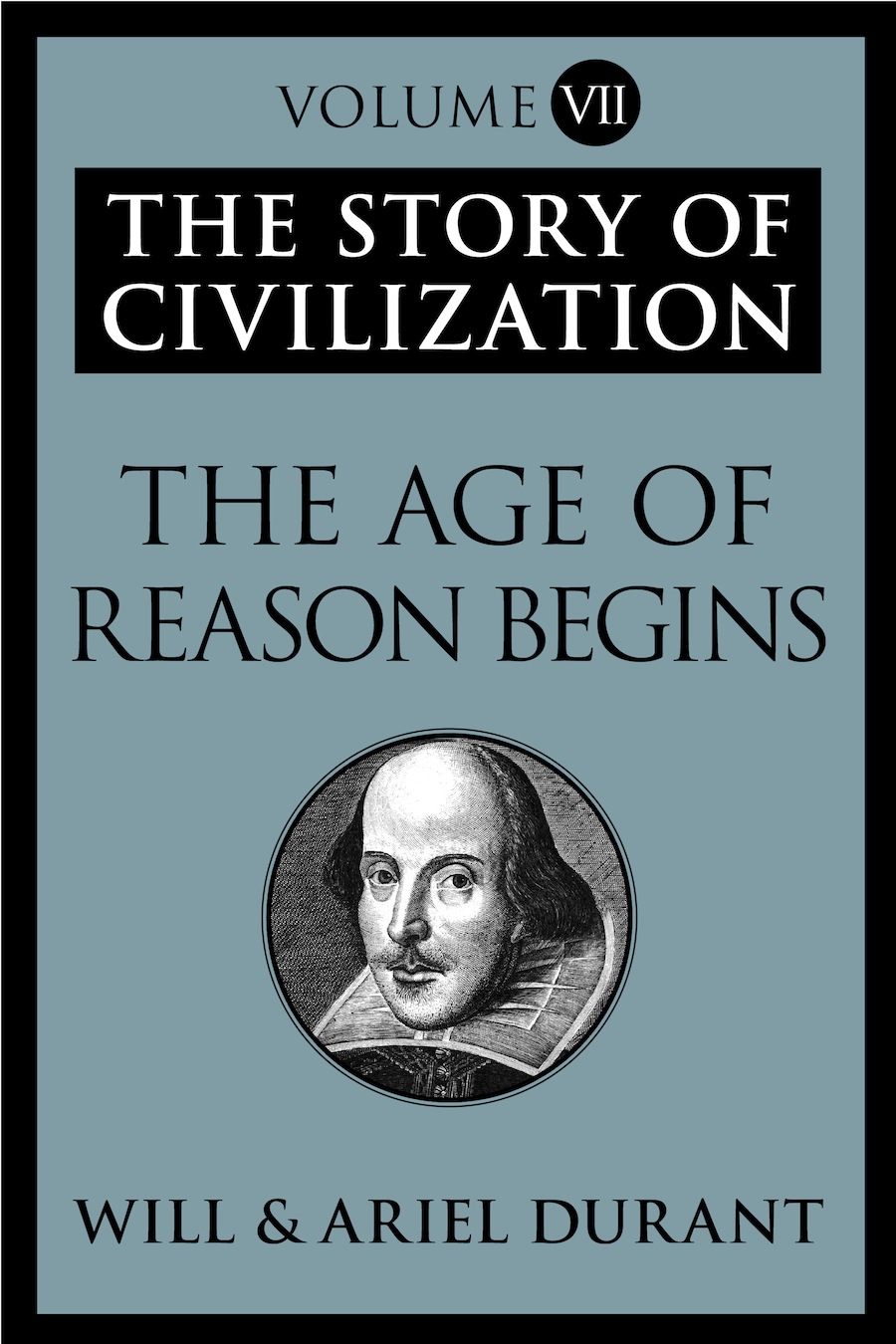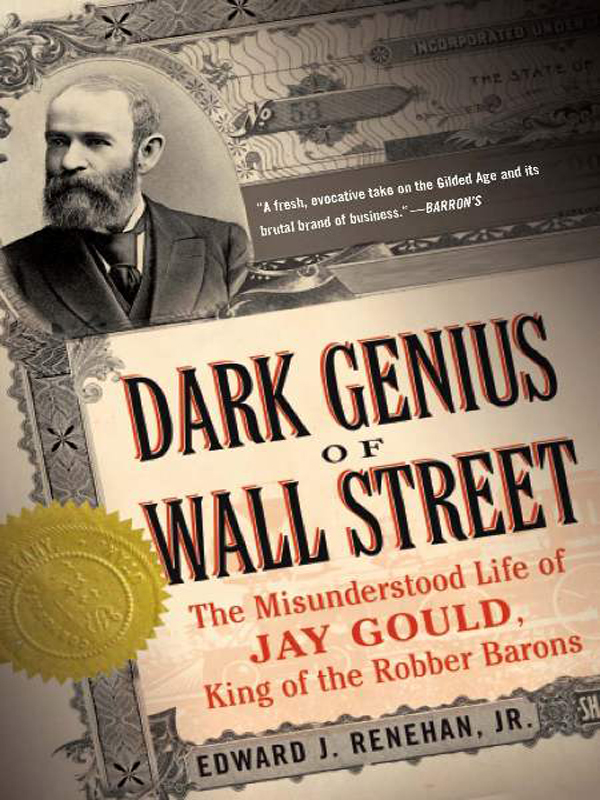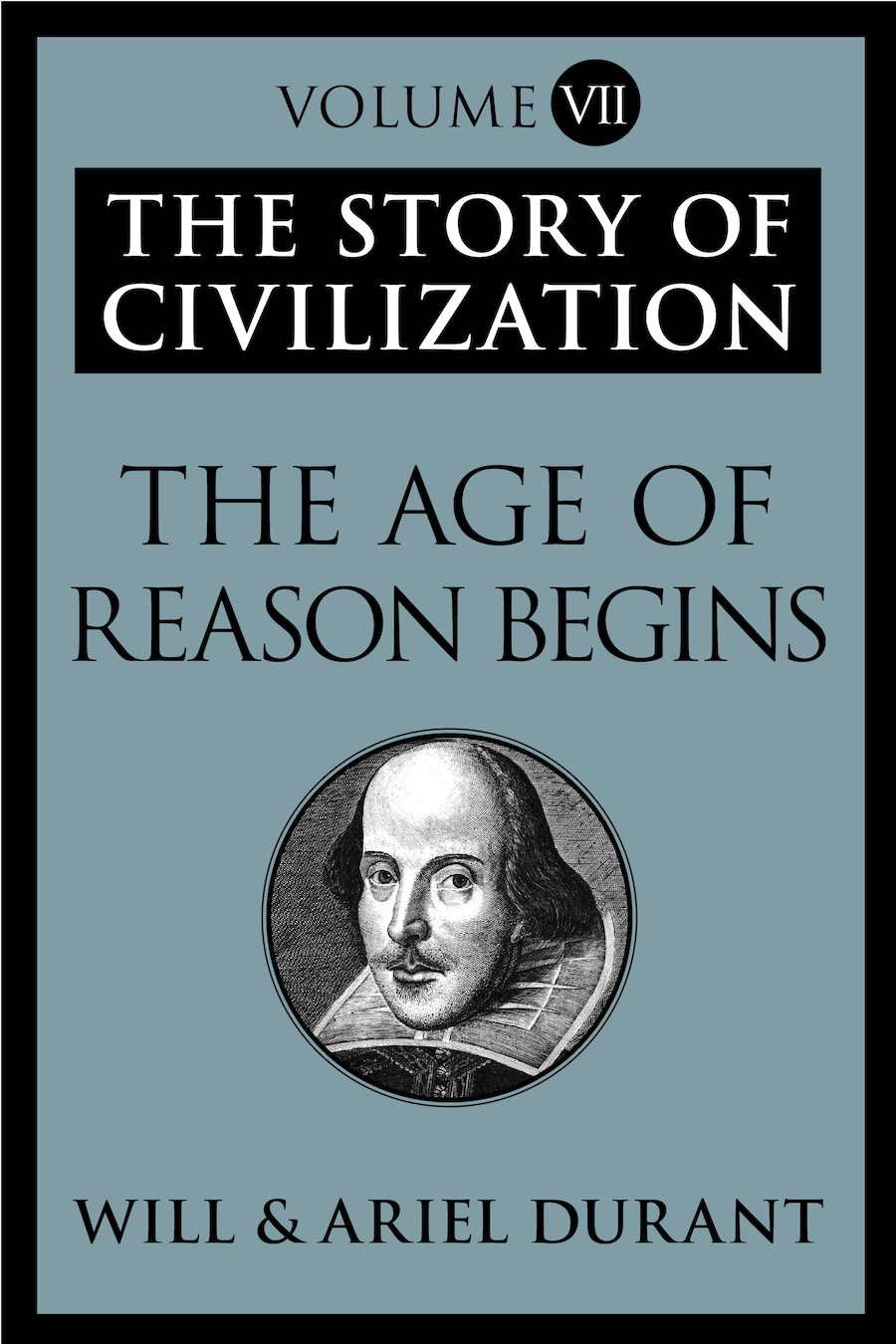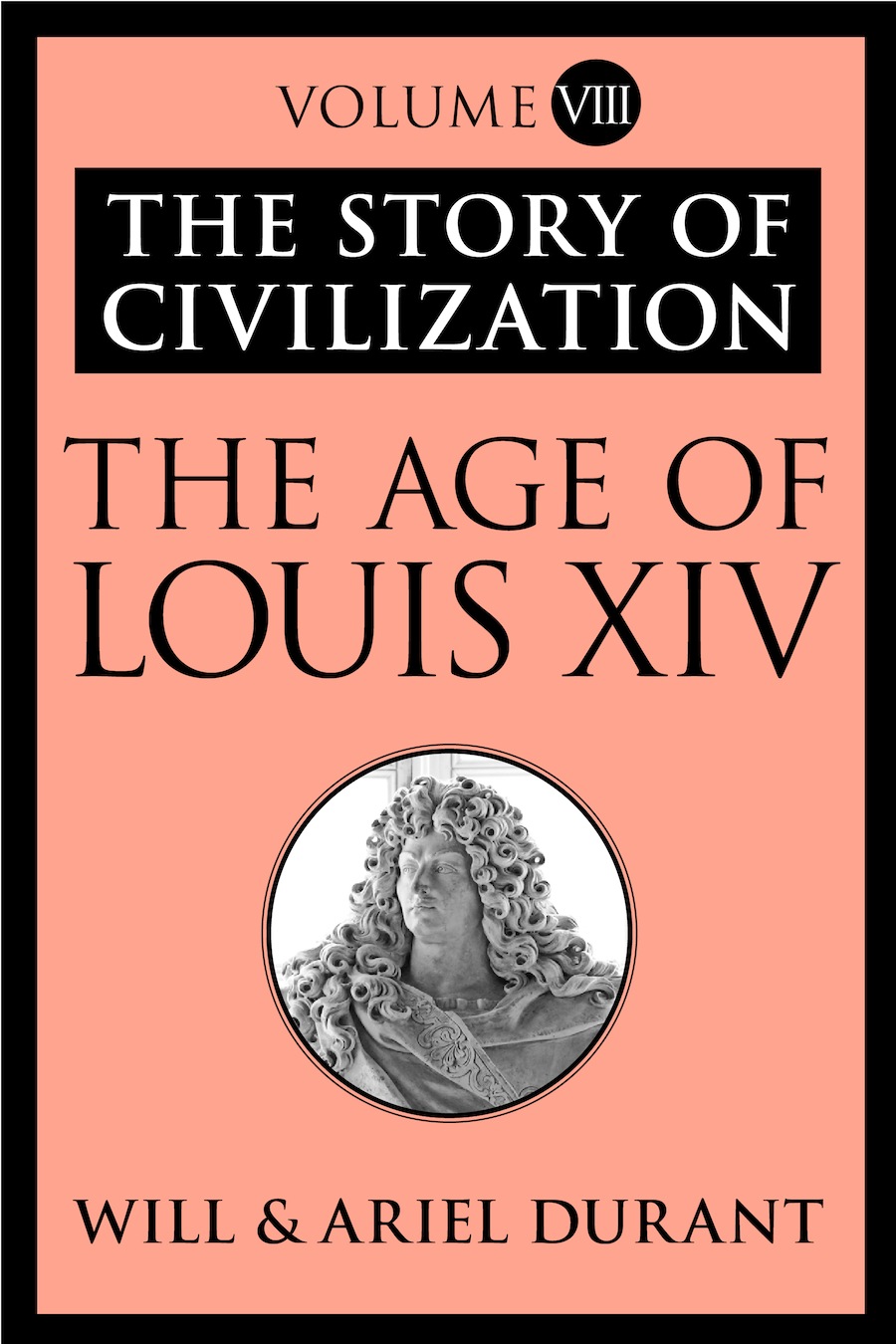будут рождать С юношескими короналями и ведущими танцами; Нет больше компании свежих прекрасных дев. И беспутные пастухи для меня восхитительны, И не пронзительно приятный звук веселых труб. В тенистой лощине, когда прохладный ветер Играет на листьях: все далеко, Поскольку ты далеко, чья дорогая сторона Как часто я сидел, увенчанный свежими цветами. Для королевы лета, в то время как каждый пастух Надевает свою пышную зеленую одежду с крючком, И висящие скрепы из лучшего кордебалета. Но ты ушел, и они ушли с тобой, И все мертвы, кроме твоей дорогой памяти; Это переживет тебя и будет жить вечно, Пока звучат трубы или поют веселые пастухи.
Идиллия выдержала одно представление и исчезла со сцены. Какой шанс был у такой панихиды о целомудрии в эпоху, все еще кипящую елизаветинским огнем?
Самый влиятельный и неприятный из драматургов якобинской эпохи — Джон Уэбстер. Мы почти ничего не знаем о его жизни, и это хорошо. О его настроении мы узнаем из предисловия к его лучшей пьесе «Белый дьявол» (1611), где он называет зрителей «невежественными ослами» и заявляет, что «дыхание, исходящее от неспособной толпы, способно отравить… самую сентиментальную [глубокую] трагедию». Это история Виттории Аккорамбони, чьи грехи и суд (1581–85) взбудоражили Италию в детстве Вебстера. Виттория считает, что доходы ее мужа не соответствуют ее красоте. Она принимает ухаживания богатого герцога Брачиано и предлагает ему избавиться от ее мужа и его собственной жены. Он сразу же берется за дело с помощью сводника Виттории, брата Фламинэо, который обеспечивает этим преступлениям самое циничное гоблигато во всей английской литературе. Ее арестовывают по подозрению, но она защищает себя с такой смелостью и мастерством, что пугает адвоката до латыни и кардинала до шляпы. Брачиано похищает ее у правосудия; их преследуют; наконец, преследователи и преследуемые, справедливые и несправедливые, уничтожаются в драматическом холокосте, который на целый год насытил жажду крови Уэбстера. Сюжет хорошо проработан, персонажи прорисованы последовательно, язык часто мужественный или гнусный, решающие сцены сильны, поэзия временами поднимается до шекспировского красноречия. Но на брезгливый цивилизованный вкус пьесу уродует вынужденная грубость Фламинэо, горячие проклятия, льющиеся даже из красивых уст («О, я мог бы убивать тебя сорок раз в день, и не использовать четыре года вместе, это было бы слишком мало!»),35 повсеместной непристойностью, словом «шлюха» на каждой второй странице, бесконечными двойными смыслами, которые заставили бы покраснеть даже Шекспира.
Уэбстер возвращается к разрухе в «Герцогине Мальфи» (1613). Фердинанд, герцог Калабрии, запрещает своей молодой овдовевшей сестре, герцогине Амальфи, снова выходить замуж, поскольку, если она умрет без брака, он унаследует ее состояние. Она оплакивает свое вынужденное целомудрие:
Птицы, живущие в поле О дикой пользе природы, жить Они счастливее нас, потому что могут выбирать себе пару, И колядовать до весны.36
Возбужденная похотью и запретами, она соблазняет своего управляющего Антонио на тайный брак и скоропалительное ложе. Фердинанд приказывает убить ее. В финале почти каждую минуту кого-то убивают: врачи наготове с ядами, грубияны с кинжалами; ни у кого не хватает терпения дождаться законной казни. Самый страшный злодей пьесы — он убивает герцогиню, крадет ее имущество, заводит любовницу, а затем убивает ее — кардинал; Уэбстер не был папистом. Здесь и двойники-оттенки вполне урологической откровенности, и решимость исчерпать словарный запас выражения, и дикое, огульное осуждение человеческой жизни. Лишь в самых отдаленных уголках этого мрачного полотна мы находим благородство, верность или нежность. Фердинанд забывает о себе и умиляется, глядя на свою сестру, все еще прекрасную в смерти:
Закройте ее лицо! Мои глаза ослепляют, она умерла молодой…37 Но вскоре он вспоминает о варварстве.
Будем надеяться найти что-то более сладкое, чем все это, в человеке, который мог написать: «Выпей меня только глазами».
V. БЕН ДЖОНСОН: 1573?-1637
Он появился на свет посмертно, родившись в Вестминстере через месяц после смерти отца. Его окрестили Бенджамином Джонсоном; он отказался от этого имени, чтобы отличить себя, но печатники продолжали использовать его через его труп до 1840 года; оно до сих пор красуется на мемориальной доске на стенах Вестминстерского аббатства. Мать, имевшая в первом муже священника, во втором взяла каменщика. Семья была бедной, и Бену пришлось искать средства на образование; только доброта одного проницательного друга позволила ему поступить в Вестминстерскую школу. Там ему посчастливилось попасть под влияние своего «подмастерья», историка и антиквара Уильяма Кэмдена. Он отнесся к классике с меньшей, чем обычно, неприязнью, сблизился с Цицероном, Сенекой, Ливием, Тацитом, Квинтилианом, а позже утверждал, видимо, справедливо, что знает «больше на греческом и латыни, чем все поэты Англии».38 Только его возбудимый «юмор» и грубость лондонского мира не позволили его образованности погубить его искусство.
После окончания Вестминстера он поступил в Кембридж, «где, — говорит его самый ранний биограф, — он пробыл всего несколько недель за неимением дальнейшего содержания».39 Отчиму он был нужен в качестве ученика каменщика, и мы представляем себе, как Бен потел и волновался в течение семи лет, укладывая кирпичи и размышляя над стихами. Затем он внезапно отправляется на