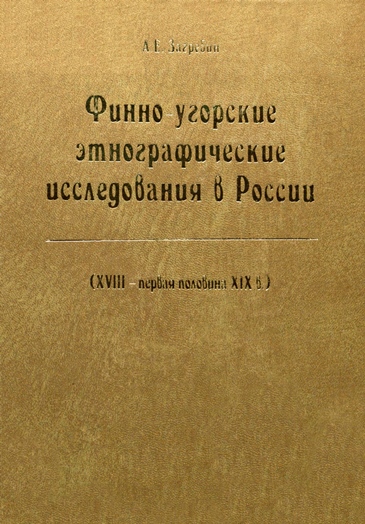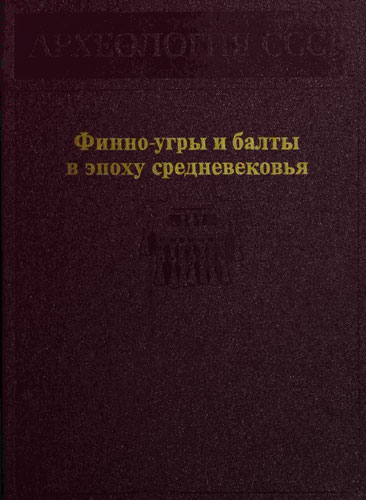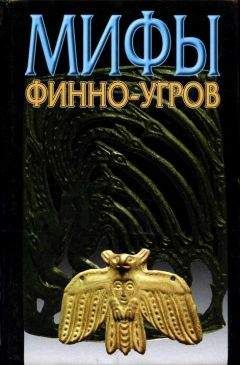том, чтоб привести их в надлежащий порядок, но и в сочинении на всю оную пространную губернию полной и обстоятельной топографии с историческими и географическими известиями».
Финно-угорская научная проблематика стала неотъемлемой частью исторических исследований в России, вне зависимости от того, к какому течению или научной школе принадлежали ученые. Неслучайно, академики Г.З. Байер и Г.Ф. Миллер посвятили немало времени изучению славяно-финно-угорских взаимоотношений, а их извечный оппонент М.В. Ломоносов начинает свою «Древнюю Российскую историю...» со слов ставящих знак равенства между «...старобытными в России обитателями, славянами и чудью». Так, постепенно включаемое в структуру академического интереса финно-угроведение приобретало дисциплинарный характер, определяемый реализацией научных проектов и наличием оплаченного государством заказа. Успехи, достигнутые Академией наук в области изучения ресурсов страны, позволили поставить во второй половине XVIII в. более амбициозные задачи, в частности выдвинуть план «Общего исторического описания Российского государства». На первом этапе предполагалось выделить «наиважнейшие» направления изучения отечественной истории, а на втором этапе приступить к изучению истории конкретных народов империи, обращая пристальное внимание на происходящие с ними «особые перемены». Так, в формулировках протокола исторического департамента Академии, предшествовавшего Физической экспедиции (1768-1774 гг.), в качестве одного из перспективных направлений исследований выделялись так называемые финские народы — «Nations fmlandoises», под которыми понимались финны Выборгской и Санкт-Петербургской губерний, эстонцы Таллиннской губернии и части Ливонии, ливы Рижского уезда, а также «Nations qui descendent, á juger par la langue quelles parlent, des Finlandois» в составе саамов, коми, удмуртов, мари, чувашей, тептярей, мордвы, хантов и манси. Вместе с тем, возможность для последующих теоретических конструкций и практических реконструкций находилась в прямой зависимости от способности академиков самостоятельно добывать опытный материал. Одним словом, идея экспедиции как специального «ученого путешествия», предоставляющего возможность для непосредственного наблюдения, в буквальном смысле витала в научной атмосфере эпохи.
Что же касается развития академических институтов в Венгрии и Финляндии, то при всей активности просветителей их инициативы могли реализоваться лишь при более благоприятной политической обстановке и, наверное, никак не ранее того времени, когда народ (или, скорее, его образованная часть) осознает себя нацией. Тем не менее, уже в конце XVIII в. венгерский писатель-патриот Д. Бешшенеи выступил со статьей «Благочестивые намерения в отношении венгерского общества», в которой, наряду с программой всеобщего образования, заметное место отводилось созданию национальной Академии. Главной задачей этого учреждения он видел заботу о языке, отмечая, что «...для большинства людей, которые не имеют возможности изучить много языков, — это родной язык каждой страны. Его усовершенствование должно быть первым делом для той нации, которая хочет распространять науки среди жителей для их благополучия». Венгерская Академия наук, основанная в 1825 г., воспримет идеи просветителей, направив героико-романтические интересы своих членов в русло научного исследования венгерского языка и его связей с культурами родственных народов. Финляндская наука длительное время сохраняла университетские черты, то есть образ образовательного учреждения, развивающего собственные научные школы, берущего начало от основанной в 1640 г. Академии в г. Або/Турку и далее к Императорскому Александровскому университету в г. Гельсингфорсе/Хельсинки. Однако, масштаб начатых исследований, нацеленных на идентификацию финнов в историческом и географическом пространстве, вскоре заставил финляндских ученых искать интеграции с правительственными органами и имперскими научными центрами. Неслучайно, многие финские исследователи языка и культуры финно-угорских народов, отправлялись в длительные экспедиции по России, опираясь на поддержку своего университета, властей автономии и Санкт-Петербургской Академии наук. При этом, большая часть из них стремилась сочетать преподавательскую деятельность с интенсивными полевыми изысканиями и разработкой фундаментальных проблем этногенетического характера.
Идея экспедиции: Прежде всего, необходимо было расстаться с привычной организацией научного труда и отправиться в полную неизвестности дорогу. Пожалуй, наиболее точно по этому поводу высказался А.Л. Шлёцер, отметивший, что шаги истории надлежит прослеживать не столько по военным дорогам завоевателей, сколько по проселкам, по которым незаметно крадутся купцы, миссионеры и путешественники. От себя добавим — и этнографы, и фольклористы, и археологи.
Развившаяся из западноевропейской традиции фиксирования путевых наблюдений экспедиция создала абсолютно новый тип исследовательских процедур, ныне известный как полевая работа [5]. Кроме того, она привела к появлению такой системы взаимоотношений, которую можно определить как «экспедиционное товарищество». Университетский, затем академический корпоративизм был связан с иерархией, экспедиция же подразумевала разрыв с традиционной схемой отношений. Экспедиционное равенство вместе с тем не препятствовало проявлениям лидерства, но лидерства, обусловленного не борьбой за власть и имущество, а основанного на готовности принять чужой авторитет, пусть не всегда подкрепленный чинами и рангами, но способный обеспечить эффективную жизнедеятельность научного коллектива, находящегося в полевых условиях, нередко в агрессивной социальной и экологической среде. С течением времени лидеры экспедиции могут сами превратиться в субъекты, персонифицирующие историю науки, чей мифологизированный жизненный путь будет увлекать в дорогу новые поколения ученых.
В истории финно-угорских исследований рассматриваемого периода найдется немало примеров, иллюстрирующих деятельность «экспедиционных товариществ». Одним из наиболее ранних опытов такого рода была поездка Д.Г. Мессершмидта по Сибири (1720-1727 гг.). Будучи на первых порах «полководцем без армии», Мессершмидт именно в экспедиции нашел родственные души таких же скитальцев, правда, в отличие от него, подневольных. Пленные шведы с готовностью приняли предложение своего гражданского товарища пойти в неизвестность, приняв его верховенство не только по причине начальственного статуса, но и учитывая его духовные качества, безусловно, усиленные их общим пиетическим настроем. Ученый, в свою очередь, разделил с ними не только все тяготы сибирского странствия, но и поделился собственными знаниями. Знаниями, которые в сочетании с «полем», сформировали его «верного драбанта» — Ф.И. Страленберга как исследователя, выросшего до собственных оценок собранного материала. Несколько иной пример экспедиционного товарищества представляет история поездки руководителей сухопутного отряда «Великой Северной (2-ой Камчатской) экспедиции» (1733-1744 гг.) — Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина. Будучи по началу малоопытными и в какой-то мере легкомысленными молодыми людьми, чье мировоззрение с успехом сочетало авантюризм и традиционную немецкую работоспособность, они в дороге проделали огромную работу, прежде всего над собой. Преодолевая свою абстрагированность от этнокультурного окружения, участники экспедиции смогли реализовать амбициозные планы по описанию необъятных пространств Восточной России слывшей, с точки зрения европейской историографии «...под именем Татарии». Как писал об этом профессор Гмелин «...все народы, в ней обитавшие, почитались за татар; не знали даже, как далеко (на восток) тянется суша и продолжается ли она до Америки или отделяется от нее морем». Великая Северная экспедиция не знала себе равных по поставленным задачам, а, как оказалось позже, и по обилию собранных материалов. Причем, многие этнографические сведения, полученные сотрудниками Академии наук в