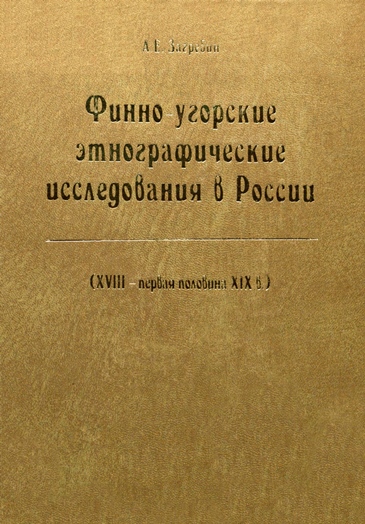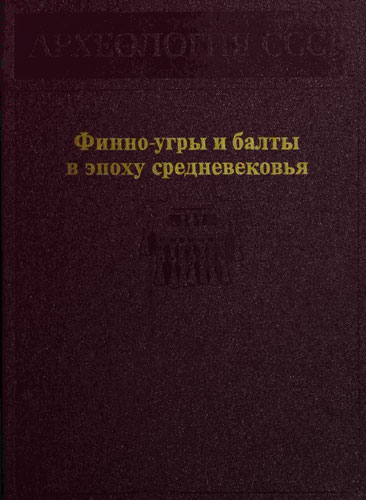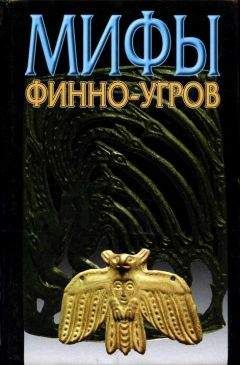от своего языка. Несмотря на это, ученый хотел выяснить, что представляла собой культура финнов до того времени, как она испытала влияние западной церкви, как и когда финны появились на своей нынешней родине и где находилась их прародина. Поддерживая идею А.Л. Шлёцера о том, что финский народ не обнаруживает никакого родства со скифами, гуннами и древними евреями, Портан считал, что финны всегда были и должны оставаться финнами. В организованной и вдохновляемой им газете «Äbo Tidningar» Портан писал в 1772 г., что финны, как и многие другие народы, не происходят непосредственно от десяти племен израильских, будучи связаны родством со многими народами, пришедшими с Востока, чьи древние обиталища находились на огромной территории от Ледовитого океана до Каспия. Он предполагал, что предки современных ему финнов и угров были многочисленными, сильными и свободными племенами, способными создавать развитые культуры, подтверждением чему, по его мнению, служили легенды о стране Биармии/Перми. Интерес Портана к России подкреплялся не только стремлением узнать как можно больше о древней прародине, но и желанием собрать информацию о родственных народах, ныне живущих на территории империи, чтобы сопоставить исторические пути финнов и российских финно-угров. Таким образом, можно предположить, что в какой-то мере шведская культурная гегемония заставляла представителей немногочисленной еще финской интеллигенции, в буквальном смысле вышедшей из народа, объединяться вокруг национальной идеи, постепенно оформляясь в феннофильское движение. Не пытаясь на первых порах противостоять великодержавным политическим замыслам шведской короны, феннофилы сосредоточились на культурно-просветительской и научной работе, стараясь пробудить национальную гордость финнов и выяснить их исторические связи с другими народами.
Финно-угроведение в Венгрии продвигалось в основном умами учившихся за границей сторонников декартианства, энциклопедизма и несколько позже — учеными, находившимися под влиянием гёттингенской историко-филологической школы А.Л. Шлёцера, что можно попробовать истолковать как некое общее для эпохи проявление идейного импорта, необходимого для будущего самостоятельного развития. В связи с этим деятельность венгерских просветителей можно рассматривать в качестве подготовительного этапа к конструированию образа национальной культуры. Собственно этнографические интересы венгерского научного сообщества проявились в последние десятилетия XVIII в., когда в период вольностей так называемого «йозефинизма» исследователь венгерской мифологии Д. Корнидес был утвержден в должности профессора «вспомогательных исторических дисциплин». Усилившиеся в эти годы патриотические настроения среди венгров находились под влиянием историософских и фольклористических взглядов Гердера, предполагавшего, что происходя из единого корня — природы, — человечество едино в своем существе, но каждый народ проходит свой путь, приобретая неповторимый культурный облик и национальный характер. Интерес образованной части общества к своему народу и собственной стране стимулировал развитие этнографического краеведения, картографирования и формирования региональной идентичности. Внешний интерес к Венгрии подогревался в основном военно-политическими событиями: сначала освобождением страны от власти султана, затем восстанием трансильванского князя Ф. Ракоци против габсбургского дома и вновь австро-турецкими войнами. При этом сохранялось общее отношение к венграм как к нуждающимся в дальнейшем просвещении потомкам пришедших в Европу восточных кочевников.
В то же время сами венгры все чаще задумывались о тайне своего происхождения. Однако высказывавшиеся некоторыми учеными гипотезы венгерско-финского родства не находили достаточного понимания ни со стороны политической, ни интеллектуальной элиты венгерского общества, склонной выводить венгерские древности из номадических культур аваров, гуннов или скифов и называть Аттилу одним из своих великих прародителей [3]. Это было в целом неудивительно, поскольку носителем национального импульса в Венгрии выступало преимущественно мелко- и среднепоместное дворянство, из среды которого выделялась образованная часть общества. Сменив саблю на перо, наследники боевой славы древних венгров своими научными изысканиями хотели подтвердить героическое прошлое народа, все чаще пытаясь противостоять «поглотительным» намерениям, исходящим от венского двора [4]. По меткому выражению профессора П. Домокоша «...венгерская интеллигенция настолько сильно, упрямо и агрессивно чуждалась так называемых «родственников воняющих рыбой», насколько глубока и определяюща была их привязанность к знаменитым (в основном, восточным) языкам, культурам и народам». В этой связи весьма неоднозначно была встречена работа Я. Шайновича «Demonstratio. Idióma Ungarorum et Lapponum idem esse», в которой проводилась мысль о венгерско-саамском родстве, продемонстрированном путем сравнения структурно-морфологических элементов исследуемых языков. Несмотря на негативный общественный резонанс, другой венгерский компаративист Ш. Дьярмати также показал факты генетического родства уральских языков. К близким выводам пришел и Х.Г. Портан на основе имевшихся в его распоряжении исторических и лексико-грамматических материалов.
Этнические исследования, в частности картографические работы, проводившиеся в России в допетровское время, носили преимущественно прикладной ведомственный характер и были мало известны в Европе, поскольку правительство старалось не допустить утечки, как ему казалось, стратегической информации. Кроме того, распространению достоверных этнографических сведений о стране препятствовали объективные причины военно-политического и конфессионального характера. Проблема обозначилась острее, когда стало ясно, что, по мере расширения страны на Восток, самим российским властям не хватает достоверной информации о новых для них землях с разноплеменным населением. Ситуация начала меняться с приходом к власти Петра I и его преемников, покровительствовавших наукам и заботившихся об издании материалов полевых экспедиций, содержавших ценные лингвистические и этнографические сведения о финно-угорских народах. Пафос эпохи нашел свое отражение в словах одного из первых русских академиков, С.П. Крашенинникова: «Знать свое отечество во всех его пределах, знать изобилие и недостатки каждого места, знать промыслы граждан и подвластных народов, знать обычай их, веру, содержание и в чем состоит богатство их, также произрастит земля и воды и какими местами к ним путь лежит, — всякому, уповаю, небесполезно, а наипаче нужно великим людям, которые по высочайшей власти имеют попечение о благополучном правлении государства и о прирастании государственной пользы, ибо когда известно состояние по всем вышеписанным обстоятельствам, то всякого звания люди имеют желаемую пользу».
Думается, что еще одной причиной развертывания мощной научноисследовательской географической и этнографической деятельности в России стало заложенное в общественное сознание в эпоху Просвещения представление о некоем цивилизационном зонировании, согласно которому, пользуясь метафорой Л. Вульфа, Западная Европа изобрела Восточную Европу как свою «вспомогательную половину». Тогда как для европейцев Поволжье, Урал и в полной мере Сибирь со всей Великой Татарией (или скорее, Тартарией) прочно ассоциировались с неведомой «terra incognita». Как пишет Р. Уортман, «одним из знаков выхода России «на театр славы всего мира» стало ее участие в европейском проекте географических исследований. В конце XVII в. в центре внимания западных ученых и землепроходцев, занятых поиском путей в Китай, оказалась Сибирь». Произошедшая в ходе петровской модернизации верхушечная европеизация страны предполагала среди прочих проектов обнаружение и исследование собственных маргинальных колонизируемых зон, ибо продемонстрировать свою цивилизованность можно было, в том числе, путем