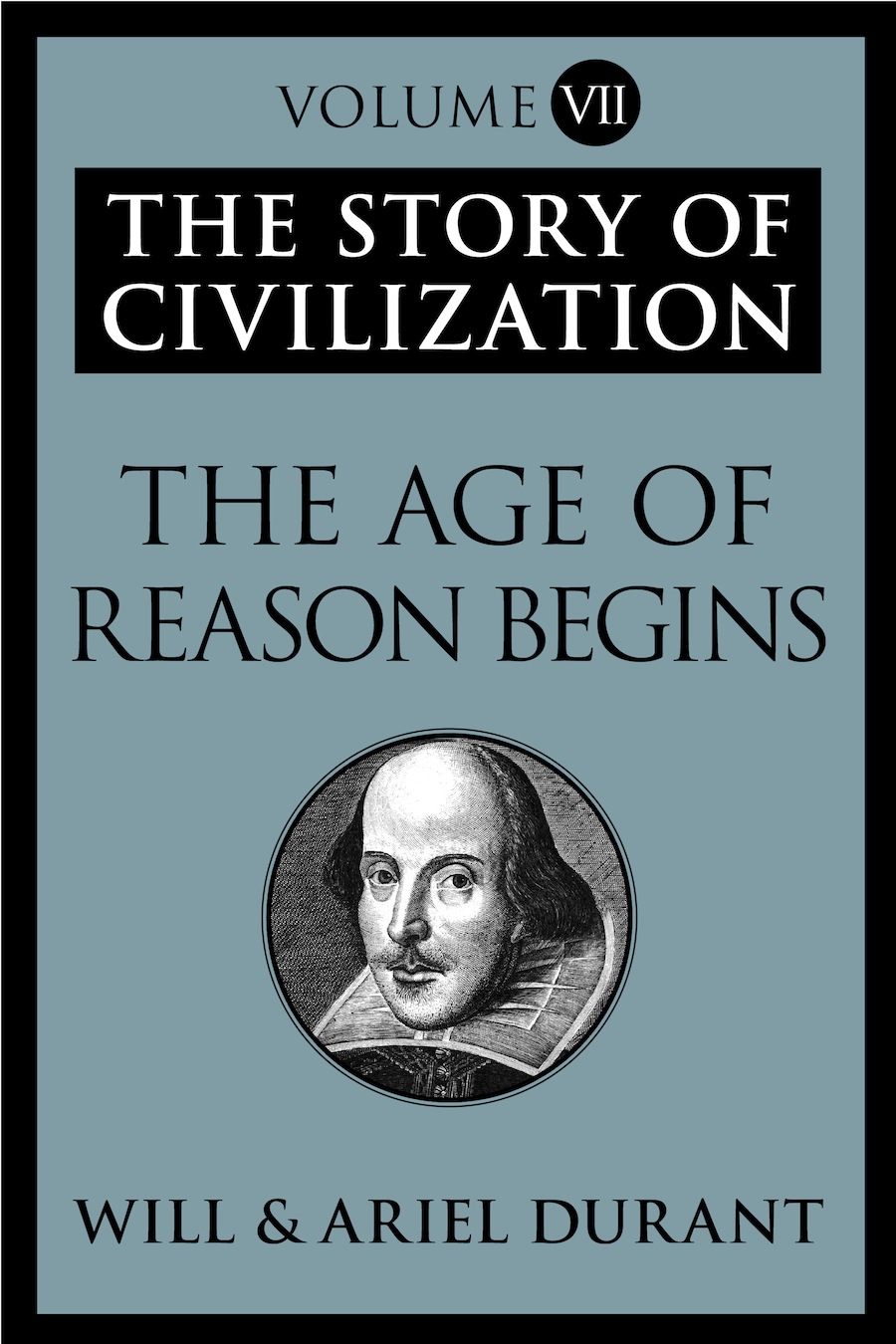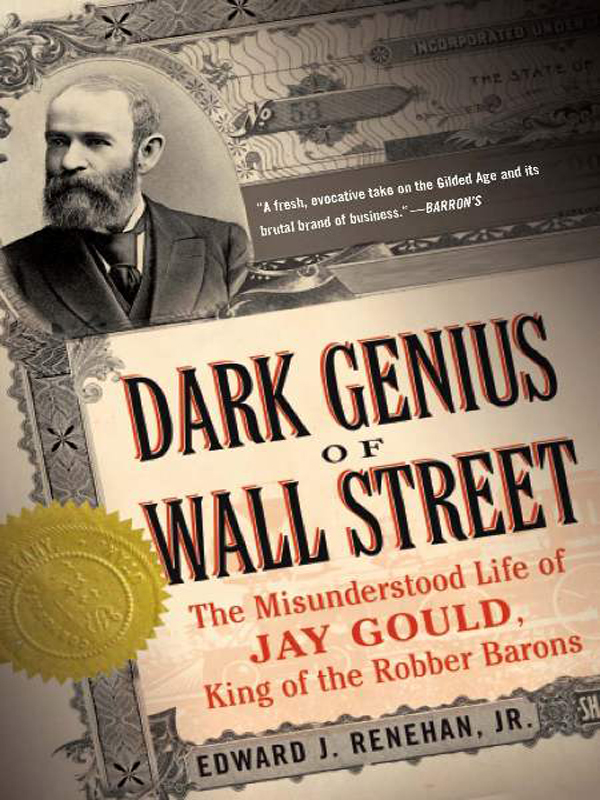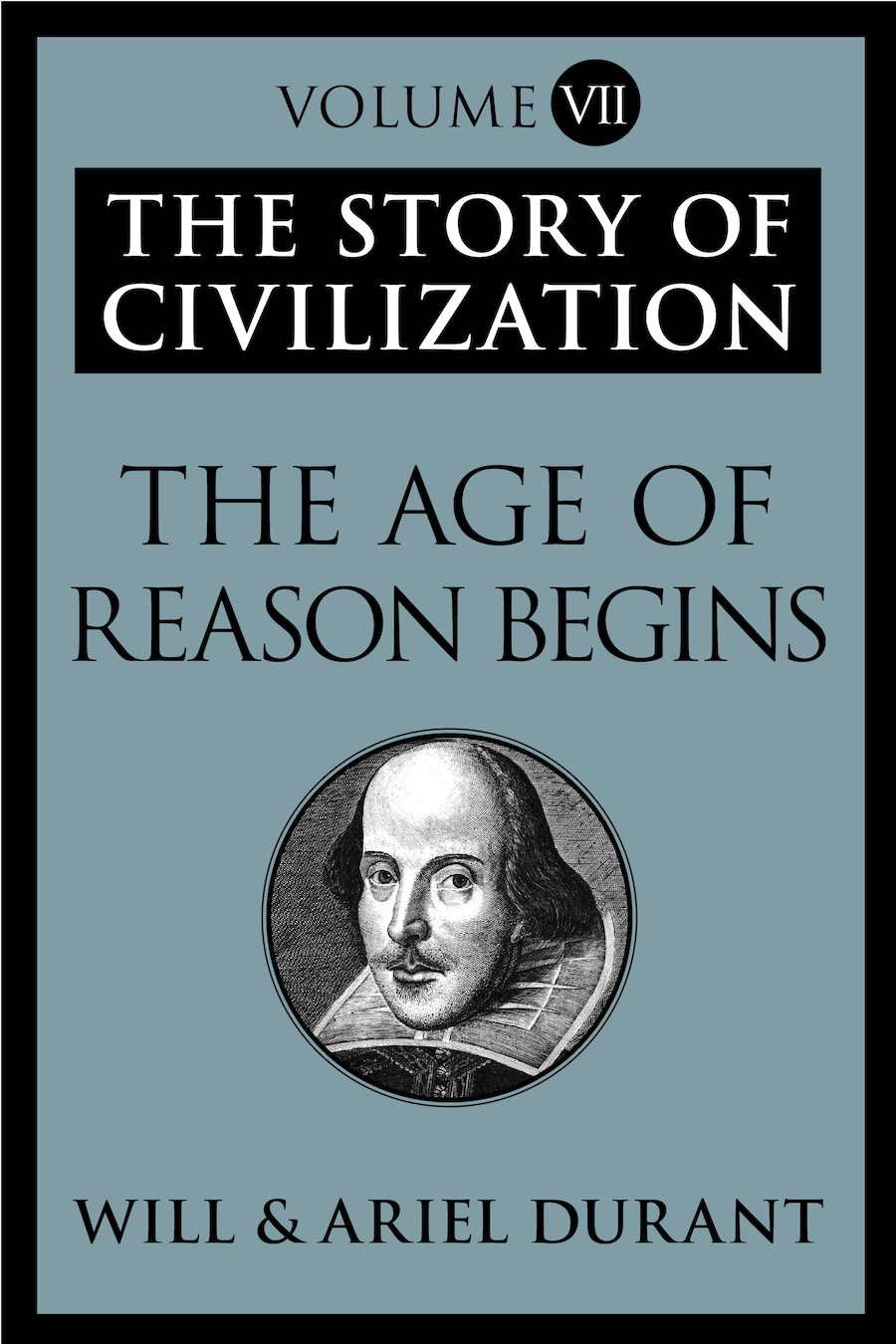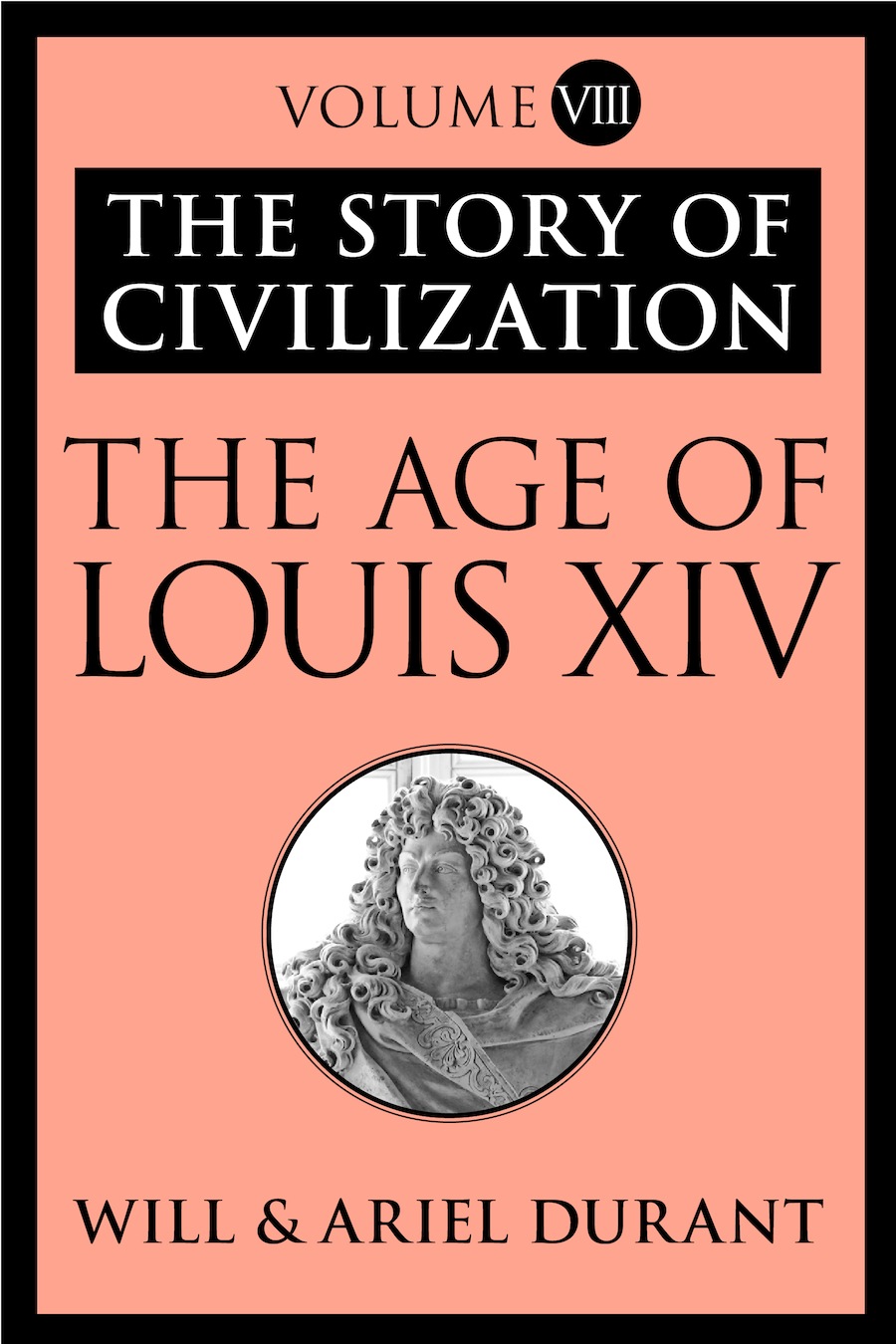голову кому-либо еще… он решил сразу же опубликовать все, что ему удалось завершить… чтобы в случае его смерти остались хоть какие-то наброски и проекты того, что он задумал… Все другие амбиции казались ему бедными в сравнении с той работой, которую он держал в руках».35
Он посвятил весь проект Якову I, извиняясь за то, что «отнял у вас столько времени, сколько требовалось для этой работы», но надеясь, что результат «будет служить памяти вашего имени и чести вашего века» — и так оно и вышло. Джеймс был человеком весьма образованным и доброжелательным; если его удалось убедить профинансировать план, то какой прогресс может быть достигнут? Как Роджер Бэкон в далеком 1268 году направил папе Клименту IV свое «Opus majus» с просьбой о помощи в расширении знаний, так и его тезка обратился к своему государю с просьбой взять на себя «королевскую работу» по организации научных исследований и философскому объединению их результатов на материальное и моральное благо человечества. Он напомнил Якову о «королях-философах» — Нерве, Траяне, Адриане, Антонине Пие и Марке Аврелии, которые в течение столетия (96–180 гг. н. э.) обеспечивали хорошее управление Римской империей. Неужели именно из-за потребности и надежды на государственные средства он последовательно и разорительно поддерживал короля?
В предисловии читателю предлагается взглянуть на современную науку как на пористую, полную ошибок и постыдно застоявшуюся, ибо
Величайшие умы каждой последующей эпохи были вытеснены из своего русла; люди, способные и умнее вульгарных, были готовы, ради репутации, склониться перед суждением времени и толпы; и таким образом, если где-нибудь и зарождались соображения более высокого порядка, их тут же сдувало ветром вульгарных мнений.36
А чтобы успокоить богословов, имевших влияние в народе или у короля, он предостерег своих читателей «ограничить смысл» своего начинания «рамками долга в отношении вещей божественных». Он отказался от намерения заниматься религиозными верованиями или делами; «дело, о котором идет речь… это не мнение, которого нужно придерживаться, а работа, которую нужно сделать… Я тружусь, чтобы заложить фундамент не какой-либо секты или доктрины, а человеческой пользы и силы».37 Он призывал других людей присоединиться к нему в этой работе и верил, что последующие поколения продолжат ее.
В императорском проспекте «Distributio operis» он предложил план этого предприятия. Во-первых, он попытается составить новую классификацию существующих или желаемых наук, выделит для них свои проблемы и области исследований; это он сделал в «Продвижении обучения», которое он перевел и расширил в «De augmentis scientiarum» (1623), чтобы охватить континентальную аудиторию. Во-вторых, он изучал недостатки современной логики и искал «более совершенное использование человеческого разума», чем то, которое сформулировал Аристотель в своих логических трактатах, известных под общим названием «Органон»; это Бэкон сделал в своем «Новом органоне» (1620). В-третьих, он должен был начать «естественную историю» «явлений Вселенной» — астрономии, физики, биологии. В-четвертых, в «Лестнице интеллекта» (Scala intellectus) он продемонстрировал бы примеры научного поиска в соответствии с его новым методом. В-пятых, в «Предтечах» (Prodromi) он описывал бы «такие вещи, которые я сам открыл». И в-шестых, он начнет излагать ту философию, которая, исходя из наук, которые он так проводил, будет развита и заверена. «Однако завершение этой последней части… выше моих сил и надежд». Нам, ныне барахтающимся и задыхающимся в океане знаний и специальностей, программа Бэкона кажется величественно тщетной; но тогда знания не были столь огромными и мельчайшими; и блеск выполненных частей прощает самонадеянность целого. Когда он сказал Сесилу: «Я взял все знания в свой удел», он не имел в виду, что мог охватить все науки в деталях, но лишь то, что намеревался осмотреть науки «как со скалы», с целью их координации и поощрения. Уильям Харви сказал о Бэконе, что он «пишет философию, как лорд-канцлер»;38 Да, и планировал ее как имперский генерал.
Мы ощущаем диапазон и остроту ума Бэкона, следуя за ним в «Продвижении обучения». Он предлагает свои идеи с незаслуженной скромностью, как «не намного лучше того шума… который издают музыканты, настраивая свои инструменты»;39 Но здесь он затронул почти все свои характерные ноты. Он призывает к умножению и поддержке колледжей, библиотек, лабораторий, биологических садов, музеев науки и промышленности; к улучшению оплаты труда преподавателей и исследователей; к увеличению фондов для финансирования научных экспериментов; к улучшению связи, сотрудничества и разделения труда между университетами Европы.40 Он не теряет своей перспективы в поклонении науке; он защищает общее и либеральное образование, включая литературу и философию, как способствующее мудрому суждению о целях, сопровождающему научное совершенствование средств.41 Он пытается классифицировать науки в логическом порядке, определить их области и границы и направить каждую к основным проблемам, требующим исследования и решения. Многие из его требований были выполнены наукой: улучшение клинической документации, продление жизни с помощью профилактической медицины, тщательное изучение «психических явлений» и развитие социальной психологии. Он даже предвосхитил наши современные исследования в области техники успеха.42
Второй и самой смелой частью Великого обновления была попытка сформулировать новый метод науки. Аристотель признавал и иногда проповедовал индукцию, но преобладающим методом его логики была дедукция, а ее идеалом — силлогизм. Бэкон считал, что старый «Органон» привел науку в состояние застоя, поскольку в нем упор делался на теоретические размышления, а не на практические наблюдения. Его «Новум Органум» предложил новый орган и систему мышления — индуктивное изучение самой природы через опыт и эксперимент. Хотя эта книга тоже осталась незавершенной, она, при всех своих недостатках, является самым блестящим произведением английской философии, первым ясным призывом к эпохе Разума. Она была написана на латыни, но такими ясными и меткими предложениями, что половина ее излучает эпиграммы. Первые же строки спрессовали философию, объявив индуктивную революцию, предвещая промышленную революцию и давая эмпирический ключ к Гоббсу и Локку, Миллю и Спенсеру.
Человек, будучи слугой и толкователем природы, может делать и понимать столько, и только столько, сколько он наблюдал, фактически или мысленно, за ходом природы; сверх этого он ничего не знает и ничего не может сделать… Человеческое знание и человеческая сила встречаются в одном; ибо там, где ход не известен, эффект не может быть произведен. Природа, чтобы повелевать, должна быть послушна».I
И как Декарт семнадцать лет спустя в «Рассуждении о методе» предложил бы начать философию с сомнения во всем, так и Бэкон здесь требует «изгнания интеллекта» в качестве первого шага