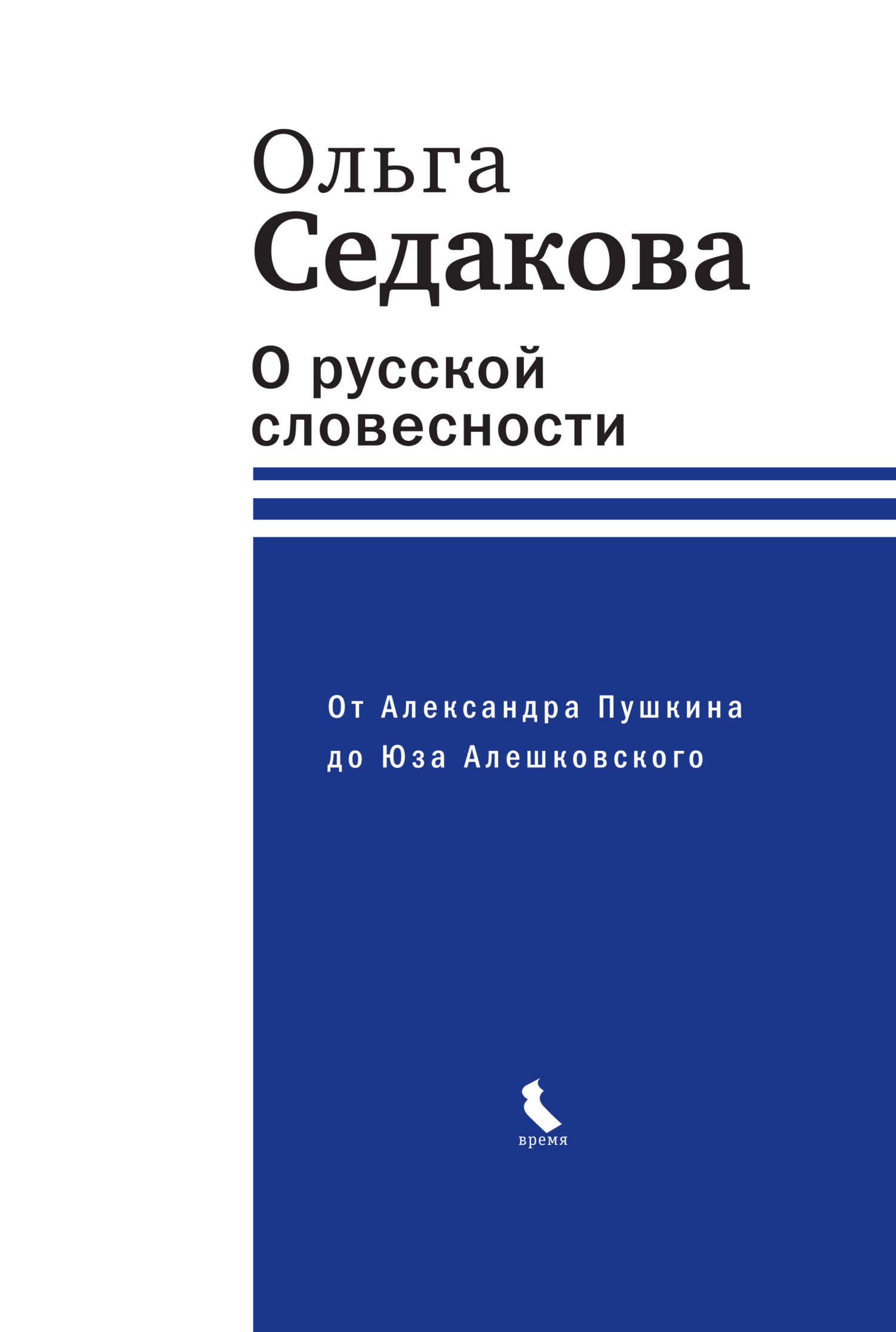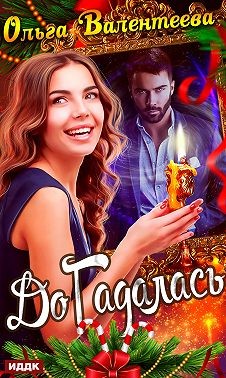авторах не было. Их «прозаизмы» ничего не заземляли – поскольку и заземлять-то было нечего. У Лапина – и там, где сюжеты его совершенно натуралистичны и почти сатиричны – речь идет о музыке, о странных и таинственных догадках, о проникнутости всего всем. Его поэтическая погода – ветер, ливень, вьюга, буран: состояние мира, слившегося с движением. Самые сильные его стихи воплощают это нарастающее движение, его порывы, его густоту – самой своей ритмической и звуковой плотью:
Измотаны яблони, яблоки сбиты на грядки —
Десятки незрелых плодов и еще раз десятки,
Их пачкает, моет и прежнею мутью кропит…
Здесь русский стих вдруг вырастает из своей бытовой ветоши и становится величавым, как в старые времена:
…ни вору, ни гостю
Ни ветер, ни дождь не уступит стези.
Да, больше всего в стихе Лапина я люблю эту подспудную, только его голосу дающуюся музыку, которая несет деталь за деталью, мысль за мыслью – и мы физически чувствуем, как
…саму
Ее затягивает, вопреки желанью,
В немыслимое мирозданье,
В свет и во тьму.
И это совсем не пастернаковская музыка. Она тяжелее, порывистее, она огибает какие-то полыньи и воронки, и ее финал выводит в головокружительную, я бы сказала, голодающую бесконечность:
Пространства оправданный голод
Глотает меня, как слюну.
Так – загадочно – кончается диптих «Зимняя наука»:
Тогда уж держись: если в наших землях кто и воскрес,
То дело было – зимой.
Быть может, самому Лапину было дороже в собственных стихах другое: мысль, которой он очень дорожил; герои его стихотворных новелл – новые люди в русской лирике, такие, как заблудившаяся марийка, Петр Петрович, подозрительная бабка из городского захолустья, путеукладчица – хозяйка бульдога по кличке Гиацинт…
старые мальчики, девочки, дядьки и тетки,
Отцы и мать-мачехи, вовсе не демоны: бывшие умницы и идиотки.
О Пушкине – сравнивая его мировоззрение с чистым пиетизмом Жуковского – кто-то сказал: опыт вдохновения и был его религиозным опытом. В определенном смысле то же можно сказать об опыте Владимира Лапина. Догматическая, церковная религиозность оставалась ему чуждой и практически мало известной: но в поэтической работе он находил свое общение с иным, с родным бытием – и порой прозрения его были поразительно глубоки. Продолжим вспоминать стихи, которые мы произвольно оборвали:
Но это еще не последний исход —
И сдавленный голос, когда он без фальши,
Содержит предчувствие много как дальше
Житейских невзгод.
Под скрипы текущих долгов и расплат
Он помнит Голгофу и знает разлад
Гвоздя с бытием и греха с преисподней;
Тесней для него все равно что свободней,
И подлинно волен лишь тот, кто распят.
Каждый, кто сложил хотя бы одну строфу, после которой поэзия стала богаче, достоин благодарной памяти. Владимир Лапин сказал немало такого, за что мы навсегда останемся благодарны ему – и тому движению, тому «тону», который его вдохновлял.
Январь 2005 года
Первая книга стихов Ивана Жданова («Портрет») вышла из печати в последний год брежневской эры, на пике социального и культурного застоя, и стала событием. Издатели, словно оправдываясь за публикацию столь странного и «непонятного» поэтического сборника, который, из-за его медитативного и едва ли не мистического содержания, был совершенно несовместим с официальным литературным контекстом, на обложке книги старательно указали на крестьянское происхождение автора и его пролетарское трудовое прошлое. Этого, видимо, оказалось достаточно, чтобы книга прошла цензуру. В те времена никто из тех, кто принадлежал ко «второй культуре», не мог предоставить подобного социального алиби.
Таким образом, книга Ивана Жданова стала первой публичной манифестацией радикального нонконформистского искусства. Само отсутствие в ней даже намека на политические темы было вполне символичным: художники 1970-х чурались политической бравады и всей риторики предыдущего поколения, так называемых шестидесятников.
Эта первая книга удивляла поэтической зрелостью; в нее входил целый ряд стихотворений, которые без колебаний можно отнести к шедеврам русской поэзии («Поэма дождя», «Джазовая импровизация», «Мороз в конце зимы» и др.). «Портрет» не имел ничего общего ни с одним из направлений официальной поэзии тех лет, ни «новаторских», ни традиционалистских (за исключением Арсения Тарковского, последнего из «старых мастеров» русской поэзии). Зато легко угадывалась связь с О. Мандельштамом, В. Хлебниковым и другими авторами Серебряного века. Легко узнаваемы были отголоски французской и испанской, немецкой и английской поэзии XX века. Жданов любил мифологические и музыкальные ассоциации; его метафоры часто уходили в мир архетипов; но так же они могли опираться на естественно-научные представления. В среде «нормальной» советской поэтической традиции все это было более чем странно. Но самой необычной была как будто внерациональная семантика этих стихов: они звучали как своего рода паззлы; они взывали к философскому или филологическому разгадыванию. Иван Жданов не пытался быть понятным для каждого – а ведь именно это вменялось в обязанность любому лояльному советскому автору, независимо от его политических взглядов! Литературные критики изобрели специально для И. Жданова (и для группы других новых поэтов, связанных с ним, но публично дебютировавшим позднее – Алексея Парщикова, Александра Еременко, Ильи Кутика) термин «мета-метафорист» или «метареалист».
Было бы неверно видеть в Иване Жданове poeta doctus, поэта-эрудита. Глубочайшую самобытность его муза черпала из совсем иных источников.
Ближе всего Жданов, как мне представляется, к такой фигуре, как Дилан Томас. Стихийная природная мощь воображения, своего рода визионерство, литургическая торжественность тона, орфическая темнота метафор, сила и монотонное ритмическое движение строф, их сонорность, напоминающая магические заклинания – все это, и особенно в авторском исполнении, производит огромное впечатление. Сравнение можно продолжить. Приходится признать, что поэзия И. Жданова, с годами усложняясь и приобретая все большую формальную изощренность, теряет в своей первоначальной целостности и свежести – так же, как это было с Диланом Томасом.
Иван Жданов избегает прямо автобиографических тем. Его «я» – эпическое «я». Даже с грамматической точки зрения, он воздерживается от перволичной речи: местоимению «я» (в речи о себе) он предпочитает формы «он» или «ты»:
рождается впотьмах само собою слово
и тянется к тебе, и ты идёшь к нему.
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем…
(«До слова»)
И тем не