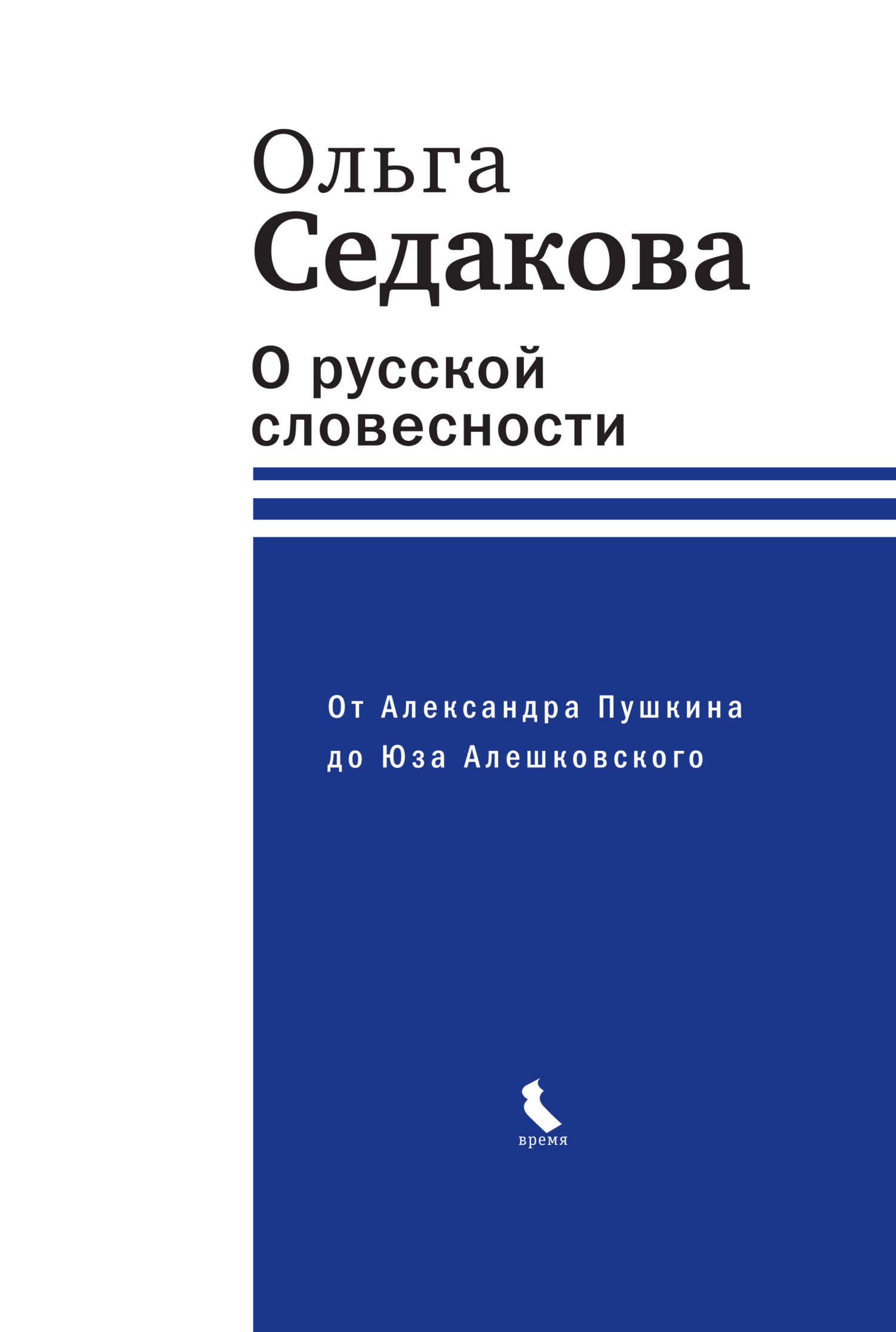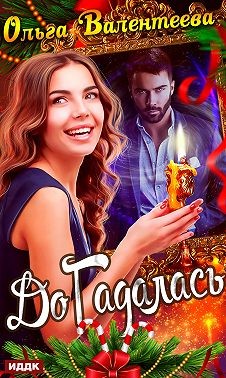в одной плоскости – морали как внеприродной системе предписаний, а не подражанию прекрасному космосу или спонтанному самовыражению человеческой природы («правая рука не ведает, что творит левая»). Поэзия как душевное состояние, как мироотношение крайне радикальна. Поэтический восторг проверяет вещи, и только настоящие, безусловные его выдерживают. Профанная мораль – конечно, нет («Нам говорит Фиглярин-моралист…»). Не добрые дела и благие чувства – поэт в качестве доказательства нравственности нуждается в греческой вазе. Если такая вещь – silent form – есть, значит, как заключает Китс, она говорит:
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral! ‹…›
Beauty is Truth, Truth Beauty, – that is all
Ye Know on earth, and all ye need to know.
Красота есть Истина, Истина есть Красота – это все,
Что вы знаете на земле и что вам следует знать.
Тема отвергнутой «мысли» в этих стихах Китса не случайна; в «мысли», в ее отстраненности и разрушается чарующее (Цветаева), таинственное (Ахматова) совпадение истины и красоты.
Но и Цветаева, и Ахматова не говорят о форме пушкинских вещей в том смысле, в каком Китс говорит о форме сосуда: они говорят о форме, какую приобретает в них то, что называют действительностью.
Выступление на Международном коллоквиуме «Великий инквизитор вчера и сегодня». Париж, 1994 год.
Вступительные замечания к курсу В. В. Бибихина «Дневники Льва Толстого» (2000–2001, философский факультет МГУ). Изданы в 2012 году в Издательстве Ивана Лимбаха.
Стоит сравнить с такой дневниковой записью: «Есть правда личная и общая. Общая только 2 × 2 = 4. Личная – художество! Христианство. Оно все художество» (17. II.1858).
Цитаты из текста лекций даются без указания страниц.
Так, о спасении он думает со ссылкой на Хр. Яннараса: «Спасение […] не юридическое оправдание поступков. Греческий термин очень значим. Ζωτηρία означает: я становлюсь σῶς, целостным, я достигаю полноты своего существования».
Дурылин С. Н. Из автобиографических записей «В своем углу». – С. Н. Дурылин и его время: Книга первая. Исследования. М.: Модест Колеров, 2010. С. 171. Толстовский дождь выпал в романе Пастернака «Доктор Живаго» – и был также не узнан его современниками, выросшими «без Толстого».
Томас Манн. Собр. соч. в 10 т. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1960. С. 621.
Между прочим, Толстой пробовал писать «Войну и мир» гекзаметром!
«…то главное, постоянно происходящее на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков ‹…› с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим» («Анна Каренина»).
«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда». – «Севастопольские рассказы» («Севастополь в мае», главка 16).
«Свет вечный» – из латинского реквиема: «И свет вечный да воссияет им».
Иногда такая финальная фраза помещена внутрь повествования, но конец сюжета в строгом смысле совпадает именно с ней: «А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:
– Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле» («Поздний час»).
Я думаю, это различие связано и с тем, что Чехов не был стихотворцем. Бунин, как поэт, должен был испытать силу двух этих крайних позиций текста: ведь стихотворная ткань, в сущности, состоит из сплошного начала и сплошного конца.
Морем, под которым она скрылась, для самого Бунина была европейская жизнь. Ее несхожесть с дореволюционной Россией обострила его ясновидческую ностальгирующую память, сообщила невероятную деталировку его описаниям минувших вещей. Мы же, его читатели, родившиеся на той же земле, благодаря его прозе и могли увидеть, что здесь безвозвратно исчезло и стерто из общей памяти – оказывалось: все. Ничего из вещей, обихода, разговоров, привычек, ритмов жизни, ничего из бунинского русского космоса вокруг не было. На местах действия его сюжетов стояли дворцы пионеров и дома отдыха. Советская эра погребла вещественный и психический мир, запечатленный Буниным, под глубочайшим слоем руин и новостроек. Разница между этим новым миром и старой Россией была куда фатальнее, чем между старой Москвой и старым Парижем. Но этого Бунин увидеть не мог.
Сила здешнего такова, что уникальным образом в этой строфе слово «платье» звучит выше и трепетнее, чем «распятье»!
Выступление на Международном юбилейном симпозиуме «Достоевский в современном мире», 17–20 декабря 2001 года.
Комментарии В. М. Борисова и Е. Б. Пастернака. – Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. Т. III. М.: Худ. лит., 1990. С. 646.
Однако никакими аргументами в пользу сознательной работы Пастернака с сюжетом Достоевского в ходе создания «Доктора Живаго» мы, по свидетельству Е. Б. Пастернака, не располагаем.
См. Седакова О. Гетевское начало в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» (в частности, о гетевской реминисценции названия: Доктор Фауст – Доктор Живаго): Пастернаковские чтения, Москва, 1999, а также мою работу «Символ и сила. Гетевская мысль в „Докторе Живаго“» (Седакова О. Апология разума. СПб.: Издательство Яромира Хладика, 2019. С. 127–259).
Томас Мертон этими условиями объяснял многое: в эпоху господствующей церкви, писал он, христианство принимает сложный и болезненный, достоевский образ; в эпоху гонений оно возвращается к пастернаковской простоте апостольских времен (Th. Merton. Boris Pasternak. Disputed Questions, 1958).
Мы оставляем в стороне генеалогию этих богословий, их связи с современной им и традиционной христианской мыслью.