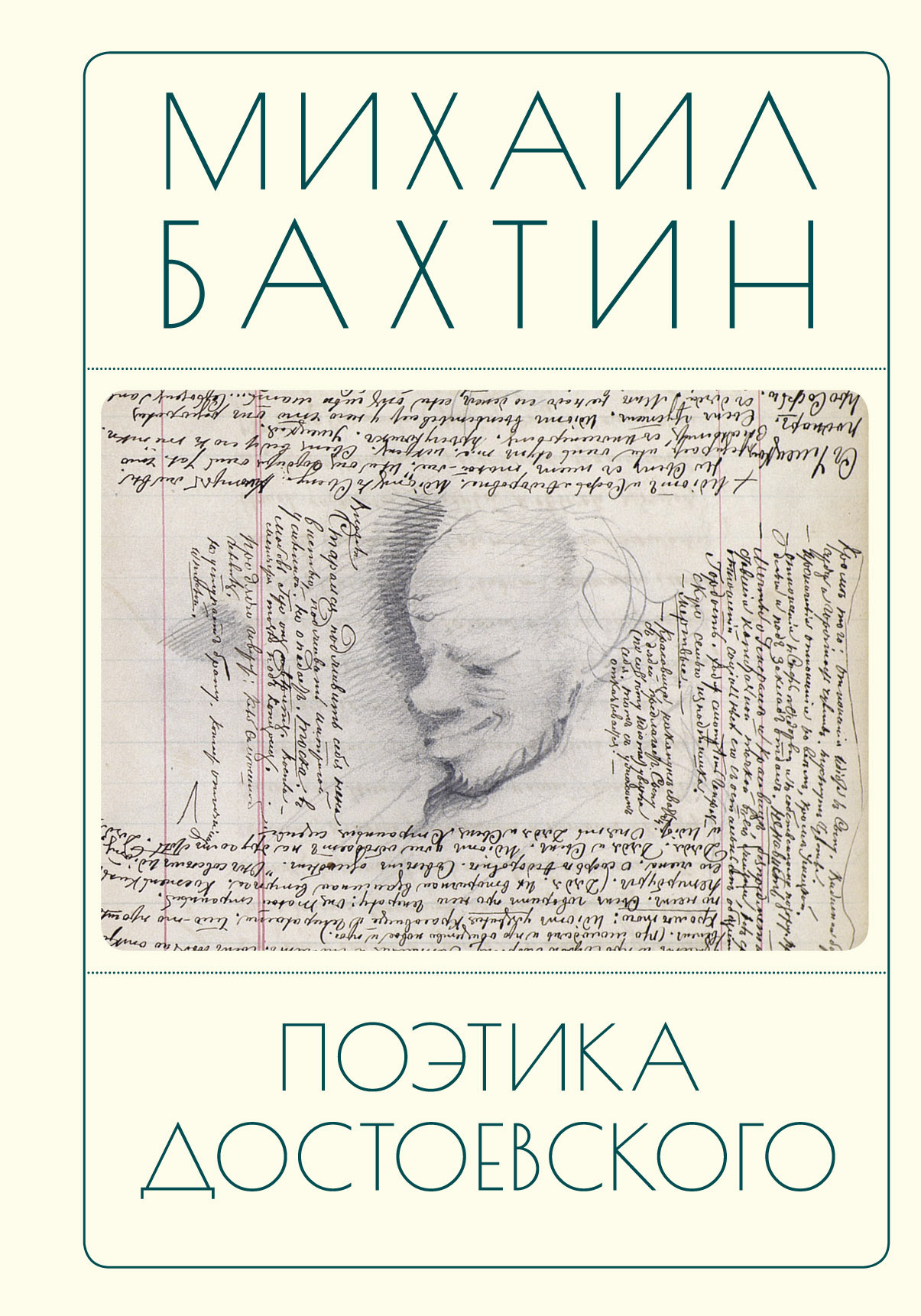в предисловии самим Достоевским: «…то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности» (X, 379).
Это также верно угадывает Мышкин: «…к тому же, может быть, он и не думал совсем, а только хотел… ему хотелось в последний раз с людьми встретиться, их уважение и любовь заслужить» (VI, стр. 484–485).
В книге «Поэтика Достоевского». М., Государственная академия художественных наук, 1925. Первоначально статья была напечатана во втором сборнике «Достоевский. Статьи и материалы», под ред. А. С. Долинина. М.-Л., изд-во «Мысль», 1924.
Леонид Гроссман. Поэтика Достоевского. М., Государственная академия художественных наук, 1925, стр. 162.
«Документы по истории литературы и общественности», вып. I. «Ф. М. Достоевский». М., изд. Центрархива РСФСР, 1922, стр. 32.
Там же, стр. 33.
«Документы по истории литературы и общественности», вып. I. «Ф. М. Достоевский». М., изд. Центрархива РСФСР, 1922, стр. 15.
Ф. М. Достоевский. Письма, т. III, М.-Л., Госиздат, 1934, стр. 256.
Совершенно правильно роль «другого» (по отношению к «я») в расстановке действующих лиц у Достоевского понял А. П. Скафтымов. «Достоевский, – говорит он, – и в Настасье Филипповне и в Ипполите (и во всех своих гордецах) раскрывает муки тоски и одиночества, выражающиеся в непреклонной тяге к любви и сочувствию, и этим ведет тенденцию о том, что человек перед лицом внутреннего интимного самочувствия сам себя принять не может, и, не освящая себя сам, болит собою и ищет освящения и санкции себе в сердце другого. В функции очищения прощением дан образ Мари в рассказе князя Мышкина».
Вот как он определяет постановку Настасьи Филипповны в отношении к Мышкину: «Так самим автором раскрыт внутренний смысл неустойчивых отношений Настасьи Филипповны к князю Мышкину: притягиваясь к нему (жажда идеала, любви и прощения), она отталкивается от него то из мотивов собственной недостойности (сознание вины, чистота души), то из мотивов гордости (неспособность забыть себя и принять любовь и прощение)» (см. сб. «Творческий путь Достоевского» под ред. Н. Л. Бродского. Л., «Сеятель», 1924, стр. 153 и 148).
А. П. Скафтымов остается, однако, в плане чисто психологического анализа. Подлинно художественного значения этого момента в построении группы героев и диалога он не раскрывает.
Этот голос Ивана с самого начала отчетливо слышит и Алеша. Приводим небольшой диалог его с Иваном уже после убийства. Этот диалог в общем аналогичен по своей структуре уже разобранному диалогу их, хотя кое в чем и отличается от него.
«– Помнишь ты (спрашивает Иван. – М. Б.), когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что "право желаний" оставляю за собой, – скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца или нет?
– Подумал, – тихо ответил Алеша.
– Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтобы "один гад съел другую гадину", то есть чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее… и что и сам я поспособствовать даже не прочь!
Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.
– Говори же! – воскликнул Иван. – Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо правду, правду! – Он тяжело перевел дух, уже заранее с какою-то злобой смотря на Алешу.
– Прости меня, я и это тогда подумал, – прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного "облегчающего обстоятельства"» (X, 130–131).
«Документы по истории литературы и общественности», вып. 1. «Ф. М. Достоевский». М., изд. Центрархива РСФСР, 1922, стр. 6.
Там же, стр. 8–9.
«Документы по истории литературы и общественности», вып. 1. «Ф. М. Достоевский». М., изд. Центрархива РСФСР, 1922, стр. 35. Любопытно сравнить это место с приведенным нами отрывком из письма Достоевского к Ковнер.
Это, как мы знаем, выход в карнавально-мистерийное пространство и время, где совершается последнее событие взаимодействия сознаний в романах Достоевского.
Если только они сами не отмирают «естественной смертью».
Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долина. М.; Л.: Мысль, 1924. Сб. 2. С. 71.
Это не значит, конечно, что Достоевский в истории романа изолирован и что у созданного им полифонического романа не было предшественников. Но от исторических вопросов мы должны здесь отвлечься. Для того чтобы правильно локализовать Достоевского в истории и обнаружить существенные связи его с предшественниками и современниками, прежде всего необходимо раскрыть его своеобразие, необходимо показать в Достоевском Достоевского – пусть такое определение своеобразия до широких исторических изысканий будет носить только предварительный и ориентировочный характер. Без такой предварительной ориентировки исторические исследования вырождаются в бессвязный ряд случайных сопоставлений.
См: Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия//Борозды и межи. М.: Мусагет, 1916.
Там же. С. 33, 34.
В дальнейшем мы дадим критический анализ этого определения Вячеслава Иванова.
В. Иванов совершает здесь типичную методологическую ошибку; от мировоззрения автора он непосредственно переходит к содержанию его произведений, минуя форму. В других случаях Иванов более правильно понимает взаимоотношения между мировоззрением и формой.
Таково, например, утверждение Иванова, что герои Достоевского – размножившиеся двойники самого автора, переродившегося и как бы при жизни покинувшего свою земную оболочку. (Там же. С. 39, 40).
Аскольдов С. Религиозно-этическое значение Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. М.; Л.: Мысль, 1922. Сб. 1.
Там же. С. 2.
Там же. С. 5.
Там же. С. 11.
Там же. С. 9.