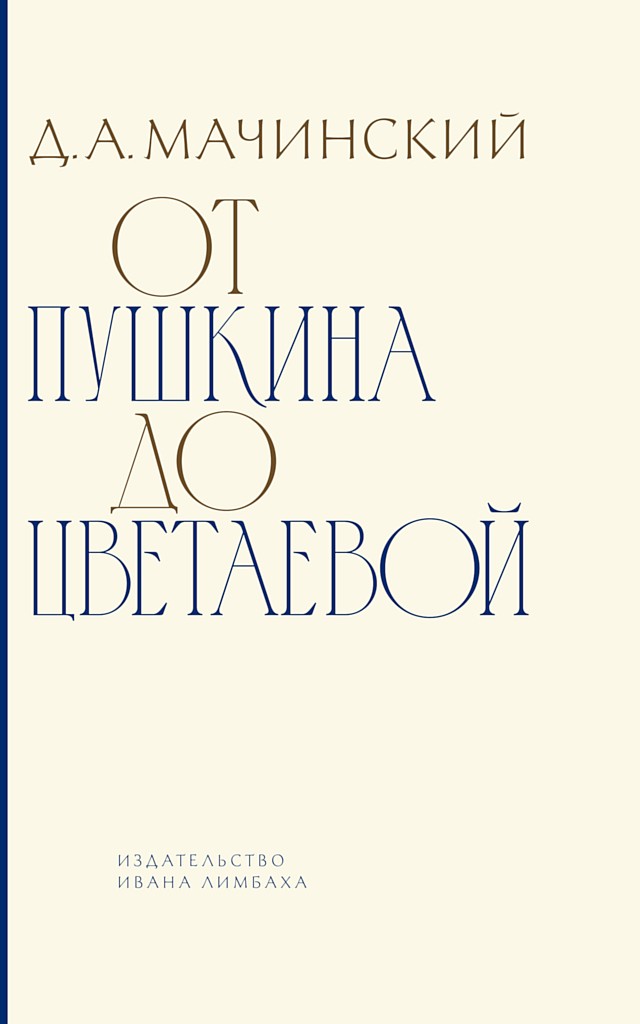жил под многослойной цензурой, контролировавшей выражение его политических и религиозно-философских взглядов. Не забудем, что главным препятствием для удачного завершения его основного волевого деяния во внешней жизни — женитьбы на Наталии Гончаровой — были сомнения будущей тещи в его религиозной и политической благонадежности, что для того, чтобы рассеять эти подозрения, он обратился за помощью к государю. Что печальные стихи, написанные им в день начала тридцатого года жизни, воспринимавшегося им как порог зрелости, были мягко, но с недвусмысленной поучительностью откорректированы митрополитом Филаретом.
В поэме — как показалось ему на короткое время по ее завершении — была достигнута та степень обобщенности, фантастичности и многозначности, которая позволяла ему образно выразить себя по широкому спектру проблем так, чтобы быть понятым хотя бы друзьями. (Заметим, что «Медный всадник» обращен именно к «друзьям», а не вообще к «читателю», как, например, «Евгений Онегин».)
Насколько важные и трагические для Пушкина темы скрываются и выявляются в кульминационных сценах поэмы, обнаруживает сопоставление образного строя этих сцен с образностью стихов, написанных Пушкиным в начале тридцатого года жизни и после наступления тридцатилетия, — «Дар напрасный…» и «Рыцарь бедный» (условное название).
В поэме не одна, как полагают обычно, а три кульминации, и какая из них напряженнее, глубже и выше — еще вопрос.
Первая — Евгений на льве — максимальная кульминация ужаса, любви и протеста, протеста, напрямую посланного в высшую инстанцию — в небо и лишь попутно захватывающего своим лучом и фигуру Всадника. Сцена сумасшествия — лишь производная из этой, основное свершилось уже там, на льве.
Вторая — Евгений ночью у монумента — кульминация протеста, также направленного высоко, но задерживающегося и концентрирующегося на фигуре Всадника, на его функциях основателя города и осуществителя судьбы России. Здесь же — кульминация ужаса, связанного с проявлением ответного протеста безымянной силы, живущей в статуе или вселившейся в нее; однако этот ужас не ведет к изменению психического состояния Евгения. Любви в этой сцене напрямую нет, Евгений, как и статуя, захвачен «силой темной», хотя весь контекст поэмы убеждает, что и злобный протест происходит от нестерпимой любви и муки.
Третья — Евгений на пороге найденного дома вечной, прижизненной и посмертной, любви. Здесь — никакого протеста, нет и ужаса, нет темы присутствия судьбы, здесь — кульминация любви и одновременно тайное разрешение всех трех кульминаций, данное в тихой, как бы случайной соотнесенности безумца с именем и страданием Бога; именно соотнесенность с Богом, а не с «небом», не с «властелином судьбы», со страдающим Богом, ради коего и хоронят Евгения некие добрые люди. Но здесь я договариваю за Пушкина; его особое целомудрие при приближении к подобным темам, целомудрие, иногда прикрывавшееся и выражавшееся кощунством, продиктовало ему и здесь столь ненавязчивую, столь убогую по обстановке, столь внешне «реалистическую» концовку, что почти все читатели не придали ей особого значения.
Итак, сопоставим две первые драматические кульминации с теми образами стихов «Дар напрасный…», которые присущи всему творчеству поэта.
Жизнь: в стихах «дар напрасный, дар случайный»,
в поэме «сон пустой».
Судьба: в стихах «враждебная власть», «судьба тайная»,
в поэме «насмешка неба», «властелин судьбы».
В стихах жизнь «судьбою тайной… на казнь осуждена», в поэме — эта казнь совершается.
Нет в этих стихах лишь темы женщины, любви; но в написанных чуть позднее «Снова тучи…» единственным утешением против ударов «рока завистливого» служит печаль и душевное движение некой женщины, в действительности — любой женщины, именуемой ангелом.
Однако во весь рост это женственное начало встает в «Рыцаре бедном».
Я надеюсь, всем понятно, что «рыцарь бедный» беден в первую очередь не материально и не социально, он беден так же, как «бедный Евгений», беден внешне, для жалеющих его людей, и богат тайно своей недостижимой мечтой и служением. Они оба сродни тем таинственным «нищим духом» из Нагорной проповеди, что забывают себя, свою душу в перерастающей ее части этой души, в Любви, лежащей в основе всего, и этим свою душу — спасают…
Да неужто мы еще не поняли, что как только Евгений появляется на льве — он «рыцарь бедный», рыцарь любви! Так грустно и смешно, когда блистательный Роман Якобсон в статье о статуе в поэзии Пушкина пишет, что в этой сцене Евгений «пародийно» приравнен Петру!
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Неужто не ясно, что это — и о Евгении? Неужели великий мистификатор Пушкин убедил нас, что его герой — забитый чиновник низшего разряда? Неужто не видно, что ключевое созвучие строфы «бедный — бледный» содержит две основные эмоциональные характеристики Евгения: «бледный» он на льве, «бедный» — перед истуканом, а именование героя «безумцем» в концовке поэмы Пушкин применил в третьем варианте «Рыцаря бедного», созданного для «Сцен из рыцарских времен», видимо, уже после поэмы.
Как безумец умер он.
Обычный человек, когда гибнет невеста, в лучшем слу-чае горюет, сетует на судьбу — и ищет новую девушку. Евгений же, с которого слетают (в прямом и переносном смысле) тут же все одежды чиновника и обывателя, становится «рыцарем бедным» своей возлюбленной, не помышляет о браке и выдерживает, сохраняя верность любви, схватку с Судьбой.
А как же с тем, что Евгений в сцене противостояния Всаднику как бы выражает функцию змеи монумента, предполагаемого врага Всадника, вечно прижимаемого копытом его коня? Только лишь в этой сцене он змей-противник, поддавшийся правилам вечного змееборства, в другие же моменты он если и змей, то змей, распинаемый на кресте своей любви, — есть и такой образ в христианском искусстве, например во внешней скульптурной отделке Спасо-Преображенского собора в Петербурге.
Именно соотнесенность тем судьбы и любви особым образом связывает между собой два столь разнородных произведения Пушкина, как «Евгений Онегин» и «Медный всадник», совсем не случайно соединенные именем главного героя — Евгения («благороднорожденного»). Известная преемственность между ними, даже на внешнем уровне, улавливается в беловиках и черновиках неоконченного «Езерского». Внутренне же «бедный Евгений» начинается там, где кончается Евгений Онегин — с состояния искренней и сильной любви. Онегин, в начале романа мысленно торопящий смерть умирающего богатого дядюшки, в середине — скучающий и холодно рассуждающий о влюбленности Ленского или Татьяны, дорастает в последней главе до любви.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
А «бедный Евгений» является к нам сразу влюбленным так, что видится со своей живущей за рекой возлюбленной ежедневно,