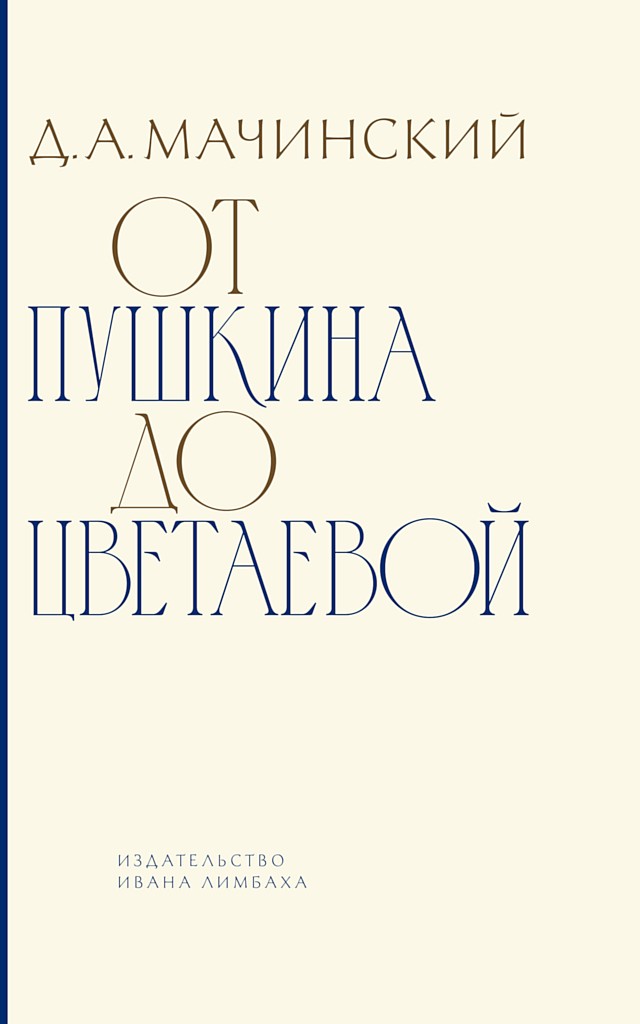сколько «окно в инфрафизический мир» в терминологии Даниила Андреева.
И здесь — вернемся к «кредо» Достоевского: «С Христом, пусть и вне истины». По Г. С. Померанцу, потрясенно и глубоко проникнувшемуся этим «символом веры», под истиной разумеется: любая философская и религиозная идея, любое мировоззрение; идея, понятие, разум; «евклидовское» сознание, доказывающее, что ближнего любить нельзя; человеческая природа, доступная всем искушениям.
К образу Христа Г. С. Померанц, соответственно, относит: икону, образ, искусство; символ целостного сознания; прорыв к новому Адаму, к высшей естественности и цельности; неслиянность и нераздельность богочеловеческой природы личности.
Все это чрезвычайно верно и глубоко. Но все же, если проследить постепенное раскрытие и «поворачивание» этого кредо в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах» и «Братьях Карамазовых», — то безмерная мысль Достоевского на последнем пределе более страшна и проста. Для Г. С. Померанца истина — это все же интерпретация мира ограниченным человеческим сознанием, это идея, мирочувствие, система, преимущественно основанная на здравом смысле и на осознании слабости человеческой природы. Но ведь и безумная вера в Христа — это тоже мировоззрение и религия, пусть и иррациональная, но ведь и мерзким пластам человеческой природы присуща иррациональность. Нет, такой «человеческий» уровень, уровень интерпретации мира человеком Достоевский никогда бы не назвал великим словом «истина», вступая в спор с утверждением самого возлюбленного им Христа. Нет, «истина» Достоевского всеобъемлюща, сверхчеловечна и укоренена в самых основах бытия. Эта истина — реальнейший «закон природы», природы как отчасти механизма, а отчасти — живого существа, наподобие паука, живущего пожиранием, или некоего абстрактного космического насекомого, вылезающего из всех четырех названных романов. Что там Кафка, когда есть Достоевский! Кафка — европейские страхи, а здесь космический вселенский ужас, до которого вернее всего добраться через Россию! И эта машина-паук, этот пра-Бог и определяет всё в мире, возможно, в том числе — и уничтожение чуда, уничтожение Христа. Это и есть хозяин мира, истинная жуткая истина, от которой производным является и расхожее человеческое сознание, от философии до быта, со всем его «здравым смыслом» и иррационализмом насекомого.
И против всего этого — Христос, безумный порыв любви, не вписывающийся в «закон» и уничтожаемый им. Христос — это «идиот» (в достоевском смысле), безумец. («Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов — безумие» — по апостолу Павлу.) Но только в этом безумии любви и сострадания — надежда на созидание существа и мира, с которым и в котором стоит жить. Носителями и потрясенными созерцателями этой идеи — закона-истины вселенной как «баньки с пауками» или закона природы как помеси машины и чудовищного насекомого — являются Свидригайлов и Ипполит, в которых иногда проявляются черты этой в ужасе прозреваемой ими истины. И основной оппонент христоподобного Льва Мышкина, князя не от мира сего, — не Рогожин, а Ипполит, и потому-то Достоевский, выяснив все основные сюжетные линии в четырехугольнике Мышкин — Настасья Филипповна — Рогожин — Аглая, никак не может кончить роман и всё тянет и тянет с повторами пребывания князя в Павловске — ему надо дать Ипполиту высказать его (и свой) мучительный бред, но высказать так, чтобы не испугать и не соблазнить читателя (да и самому не подвергнуться обвинению в богохульстве). Может быть, он надеется, что князь что-то сумеет ответить ему сам, помимо его достоевской воли, изнутри своего таинственного «княжества» сумеет возразить Ипполиту. Но князь молчит, лишь изредка проявляя глубокое понимание психики Ипполита, молчит, как потом в «Братьях Карамазовых» будет молчать Алеша и сам Христос.
А братья Карамазовы — ведь на последнем уровне это вселенская мистерия, разыгрывающаяся — что там твой Петербург — в Скотопригоньевске. Ведь это же насекомоподобный Феодор Карамазов (Богодар Черномазов), темное сладострастное прабожество мира, рождающий от жены Софии Алешу и Ивана, просветленного Бога Сына и сомневающегося и страдающего бога Демона!
Остановимся. Вернемся к «Идиоту». Мышкин молчит, но со слов Аглаи мы знаем, что он говорил ей, что «красота спасет мир». А контекст, в котором несколько раз Достоевский употребляет эту формулу, заставляет полагать, что под красотой имеется в виду в первую голову женская красота, попросту женщина. И вот Достоевский сталкивает идиота с двумя «красотами» — быть может, они спасут его, а некая красота спасет и нового Христа, которого Федор Михайлович ждет, конечно, в России. Но «красота», искаженная сама паучьим законом, в российском преломлении растерзывает Мышкина, до того сумевшего временно «спастись» более упорядоченной красотой европейской природы — в Швейцарии. И все же Достоевский верен до конца своим двум формулам: Христу, безумцу любви против Истины-паука, новому Богу и новому Человеку против старых, послушных «закону природы», и той Красоте, которая спасет мир (а быть может, спасет и нового Христа). Недаром Аглая называет Мышкина «рыцарем бедным» и как бы делает его девизом одноименное стихотворение Пушкина.
Мне чуется, что нечто родственное этим формулам выявилось и у Пушкина, и особенно явно — в реалистичнейшей мистерии «Медный всадник». Воздержусь от параллелей и возражений — пусть их проведет и приведет читатель — материала я дал предостаточно.
А осмысление пушкинско-достоевского безумия о Красоте Мадонны, которая спасет личность и мир, можно найти у Владимира Соловьева, в его интуициях о первом и втором (женственном) Божественных «Я» Абсолюта. Так, от великого к великому углубляется великий российский миф, российское прозрение творящей новый мир Красоты-Любви. И здесь остановимся — и вернемся к Пушкину.
* * *
Поэма у Пушкина «пошла» в конце октября. Тогда же была в основном написана ее вторая часть. В переводе на новый стиль эта часть, следовательно, была написана в начале ноября. Итак, запомним, что роковое «Ужо тебе» было введено в текст поэмы в начале ноября 1933 года (н. ст.) — это нам еще пригодится.
6 декабря (ст. ст.) Пушкин через Бенкендорфа направил поэму высочайшему цензору. Ответ был молниеносен и стал известен Пушкину не позже 14 декабря.
Император Николай оказался на высоте положения. Как истинное и совершенное человекоорудие втайне слабеющего имперского поля России, он (на имперском уровне) вполне осознал всю опасность и недопустимость поэмы и сделал в ее тексте (в декабре 1933 года) пометы, требующие таких исправлений, которые исказили бы весь ее образный строй. Пушкин вынужден отказаться от публикации полного текста поэмы, что сильно подрывает и его финансовые планы, и, со временем, его отношения с читателем.
А затем, как бы без прямой злой воли императора, но каждый раз с его прямым участием, судьба в течение 1934 года наносит Пушкину три последовательных удара, совершает как бы три скока Всадника Медного, преследующего того, кто слишком глубоко постиг его сущность. Новогодним подарком было камер-юнкерство Пушкина, глубоко оскорбившее его и навсегда приковавшее его ко двору. Едва Пушкин оправился от этого унижения, совершенного государем, как он