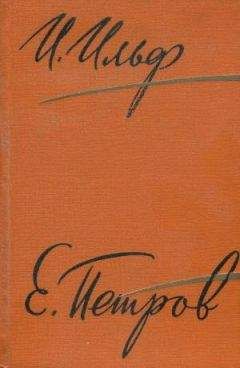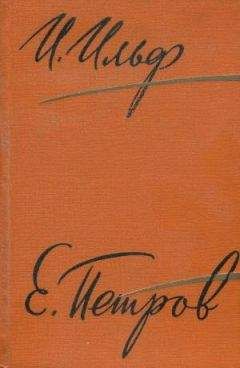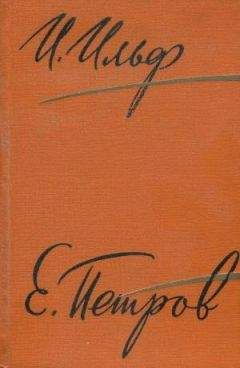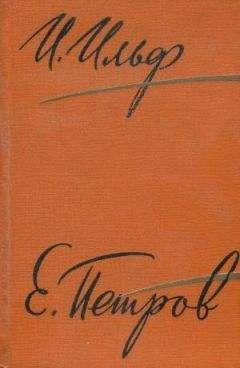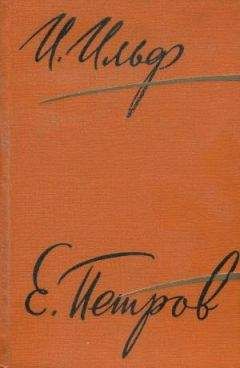фонарями, переходил каток и выходил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспоминать о тебе». В комментариях высказывается предположение, что «имеется в виду Вознесенский переулок в Одессе, где в доме № 20, кв. 1, жила будущая жена И. Ильфа Маруся Тарасенко — прототип Вали» [111]. Но это, разумеется, не одесское, а уже московское впечатление: каток на Чистых прудах, Архангельский переулок (будет переименован в 1924 году) и так называемая Меншикова башня — церковь Архангела Гавриила, которая была построена в начале XVIII в., а в эпоху расцвета русского масонства использовалась как место собрания братьев [112].
Пять лет спустя после переезда Ильф и Петров предложили свою литературную модель Москвы.
Роман «Двенадцать стульев» — центростремительный, и Москва — его пространственно-смысловой центр. Разумеется, Ильф и Петров не ставили перед собой исключительно «краеведческие» задачи, но получилось, что образ Москвы аккумулировал и ознаменовал ряд принципиальных для них идеологем. Наиболее заметно это в самой ранней из сохранившихся редакций романа, ориентированной в первую очередь на восприятие коллег, московских — именно московских — литераторов.
С утверждением новой государственности, по степени централизации превосходившей имперскую, Санкт-Петербург/ Ленинград утратил прежний статус и в литературе. Для авторов «Двенадцати стульев» привычная российская оппозиция двух столиц тоже неактуальна, и можно указать лишь один вставной эпизод, образцово манифестирующий основные особенности «петербургского текста», — «Рассказ о несчастной любви». Здесь характерны и сюжет — история любви одинокого художника и мечтательной барышни, читающей Шиллера в подлиннике, и противопоставление «магия искусства» / «проза жизни», и топонимы — Васильевский остров, Новая Голландия, и время действия — пора белых ночей, и даже такие нюансы, как уподобление бывшей столицы — Венеции [113]. Однако «петербургский текст» авторы «Двенадцати стульев» откровенно пародируют: мечтательная барышня оказывается достаточно решительной, весьма напористой и ничуть не стеснительной особой, а жрец высокого искусства — посредственностью и конъюнктурщиком. Советский же Ленинград, едва упомянутый на страницах романа, интересен авторам, последовательным централистам, не более (если не менее), чем любой другой провинциальный город — Кисловодск, Пятигорск или Владикавказ, к примеру.
Традиции изображения столицы использовались применительно к Москве. И примечательно, что гротескный проект Остапа Бендера, провозглашающего столицей будущего захолустный городок Васюки, предусматривает переименование Москвы в Старые Васюки, а Васюкам соответственно надлежит именоваться Новой Москвой: ни в шутку, ни всерьез Ильф и Петров не представляют себе иного имени для центра СССР, кроме Москвы.
Москва привлекательна для авторов романа именно как «шумный центр» индустриальной державы, и никакой ностальгии по былой — «белокаменной» — столице нет в романе. Наоборот, есть пренебрежение к «пережиткам прошлого», и даже «старорежимный» Воробьянинов иронизирует по поводу «бессистемно распланированной большой деревни». Индустриальный характер пейзажа никаких «околоэкологических» ламентаций не вызывает: «За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции МОГЭСа дымили, как эскадры. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармонь». «Черно-бурые лисьи хвосты» дымящих труб поучительно сравнить с тем же московским пейзажем, включенным М.А. Булгаковым в фельетон «Москва краснокаменная» (газета «Накануне», 30 июля 1922 года): «Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья» [114].
Восприятие Москвы в «Двенадцати стульях» — восприятие приезжих: панорама вокзалов, уличная сутолока, театральные афиши и т. д. Эдакий калейдоскоп, наподобие знаменитого въезда в Москву Татьяны — в 7-й главе «Евгения Онегина». Правда, в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца» Бендер и Воробьянинов добираются не в «возке боярском» по зимнему тракту, а на поезде, везущем их из Стар города, но авторы дотошно описывают их маршрут: вот поезд несется, минуя железнодорожные станции — Быково, Малаховку, Удельное, Красково — к Рязанскому (Казанскому) вокзалу: «Это была Москва. Это был Рязанский вокзал — самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из восьми остальных московских вокзалов нет таких обширных и высоких зал, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в его большом зале для ожидания. <…> Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них были геральдические курочки Ярославского вокзала». Казанский вокзал действительно был «самым свежим и новым из всех московских»: его строительство, начатое в 1914 году по проекту А.В. Щусева, в основном завершилось к 1926 году. Ярославский вокзал, «с его псевдорусскими гребешками», был построен по проекту Ф.О. Шехтеля в 1900–1902 годах в псевдорусском стиле, а под «геральдическими курочками», очевидно, имеются в виду узоры чугунной декоративной решетки над его главным входом.
Затем герои в извозчичьей пролетке отправляются от вокзальной Каланчевской площади на Сивцев Вражек: «Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города». В «канонической» редакции романа компаньоны попадают в смятение Охотного ряда, но в полной редакции экскурсия была продолжительной. Потом авторы ее сократили, и нетрудно догадаться, по какой причине [115].
«Подле реставрированных тщанием Главнауки Красных ворот расположились заляпанные известкой маляры со своими саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садово-Спасской». У Ильфа и Петрова Красные ворота (каменная триумфальная арка, построенная в 1753–1757 годах по проекту Д.В. Ухтомского) пока реставрированы «тщанием Главнауки» — Главного управления научными музейными и научно-художественными учреждениями Народного комиссариата просвещения, но в июне 1927 года их уже снесут по решению Президиума ВЦИК, так что если бы Бендер и Воробьянинов гипотетически пожелали увидеть памятник в финале романа — ничего бы не получилось. Зато отклик Ильфа и Петрова на снос Красных ворот можно неожиданно обнаружить в главе «Зерцало грешного». При описании обывателей «уездного города Ы», где начинается действие романа, назван «заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению». Определение «елисаветинские», которое слишком ясно указывало на Красные ворота, при публикации романа было снято.
«— Запасный дворец, — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное белое с зеленым здание по Новой Басманной.
— Работал я и в этом дворце, — сказал Остап, — он, кстати, не дворец, а НКПС» [116].
Речь идет о здании, построенном в 1750-е годы — с целью хранения запасов продовольствия и фуража для нужд императорского двора. В конце XIX века Запасный дворец был передан Дворянскому институту — учебному заведению, где воспитывались «девицы благородного звания», ас 1918 года там находился Народный комиссариат путей сообщения (в 1930-е годы здание полностью перестроено по проекту И.А. Фомина).
Остап продолжает рассказ: «— А вот и Мясницкая. Замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники,