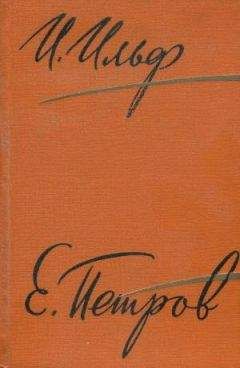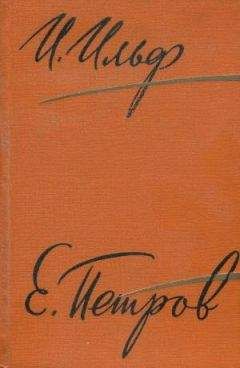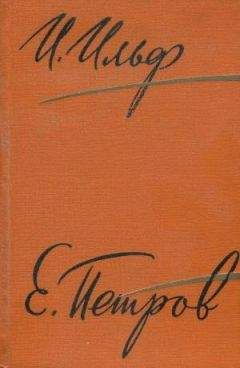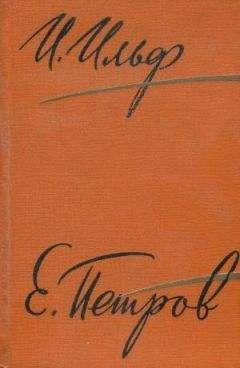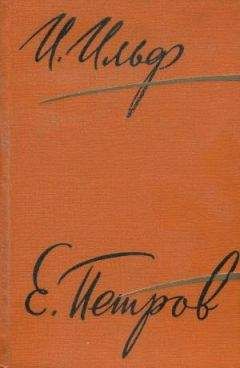скандальна, и скандальность эта обуславливалась спецификой литературной репутации Маяковского, некогда мятежника, буяна, неуемного скандалиста, вот уж десять лет как ставшего образцово лояльным. Он, постоянно декларировавший преданность новому режиму, снисходительно поучавший коллег-литераторов, издевавшийся над теми, кто упрекал его в ангажированности, требовавший признания за собой статуса советского классика, непогрешимого в области истолкования партийной политики, гордившийся дружбою высокопоставленных чекистов и даже в литературной полемике ссылавшийся на ОГПУ, наконец-то не угадал, ухитрился досадить правительству.
Впервые Маяковский упомянут в эпизоде, относящемся к предвоенным похождениям Воробьянинова, повествование о которых было исключено из первой части романа еще на стадии редактирования, а позже публиковалось как приложение — не вошедшая в роман глава «Прошлое регистратора загса». Эпизод этот — из «хроники 1913 г.» и эпатажное поведение Маяковского — своего рода «примета времени». Ильф и Петров описывают инцидент, связанный с приездом в Москву К.Д. Бальмонта. Поэта, как сообщают авторы романа, «вернувшегося из Полинезии», поклонники встречали цветами на вокзале, позже его чествовали коллеги-литераторы, и вот тогда «торжество чествования было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, “не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых”. Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста».
Тут есть ряд фактографических неточностей, из них наиболее существенны две. Во-первых, ажиотаж, связанный с приездом Бальмонта, обуславливался отнюдь не тем, что поэт путешествовал по Полинезии. Как известно, Бальмонта, уехавшего за границу в 1905 году, считали политическим эмигрантом, и вернулся он после амнистии, объявленной по случаю трехсотлетия династии Романовых. Во-вторых, обращение Маяковского к Бальмонту не было столь откровенно издевательским: окажись оно таким, это восприняли бы в качестве выражения солидарности с преследовавшим поэта правительством, что явно не входило в задачу Маяковского. На самом деле он выступил куда более дипломатично. Газета «Русское слово», например, сообщала 8 мая 1913 года: «Некоторое замешательство среди присутствующих вызывает выступление неофутуриста г. Маяковского», который «начинает с того, что спрашивает г. Бальмонта, не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых, или соратников по поэзии. Г-н Маяковский приветствует поэта от имени его врагов». Таким образом, «неофутурист» подчеркнул, что считает необходимым приветствовать поэта-эмигранта, хоть и видит в Бальмонте литературного противника.
Надо полагать, Ильф и Петров, цитировавшие в «хронике 1913 г.» газетные и журнальные статьи, знали, когда и почему Бальмонт уехал и вернулся, умолчали же они о том сознательно, да и смысл выступления Маяковского искажен ими умышленно. О конфликтах Бальмонта с царским правительством вряд ли стоило напоминать, потому что с 1921 года он опять был в эмиграции. Умолчав, авторы «Двенадцати стульев» придали малозначительному в 1913 году инциденту «хрестоматийный глянец»: Бальмонт, вполне благополучный кумир курсисток, типичный «буржуазный литератор», возвратившийся из заграничного вояжа, скандализован Маяковским, дерзким нонконформистом.
В дальнейшем былой нонконформист, утративший задор и дерзость, изображается исключительно карикатурно, и карикатура на Маяковского угадывается прежде всего в поэте Никифоре Ляписе-Трубецком, невежественном халтурщике, всегда готовом к выполнению «социального заказа».
После смерти Маяковского и особенно посмертной оценки, данной Сталиным, любые соображения о соотнесенности Ляписа-Трубецкого с «лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» стали неуместны. Так исследование связи Маяковский-Ляпис оказалось под негласным запретом, и в авторе «Гаврилиады» готовы были видеть кого угодно, только не «классика советской литературы», увековеченного в бронзе и граните.
В.Е. Ардов вспоминал о незадачливом литературоведе, который в 1950-е годы пришел к выводу, что прототип автора «Гаврилиады» — М.М. Зощенко, поскольку один из зощенковских псевдонимов созвучен имени героя ляписовских поэм. По тому времени — вполне соответствующее конъюнктуре умозаключение. Ардов, знавший Зощенко и друживший с ним, нашел этот вывод смехотворным. И, в свою очередь, предложил позже другую версию, более обоснованную, не противоречащую суждениям мемуаристов, равным образом официальным установкам. По его словам, внешне и манерами кудрявый поэт походил на хорошо известного в московских редакциях О.Я. Сиркиса (Сиркеса), взявшего звучный псевдоним Колычев, боярскую фамилию [126].
Конкретный прототип был наконец определен недвусмысленно, что вроде бы исключало сопоставление с кем бы то ни было еще. На свидетельства авторитетных мемуаристов ссылается и Ю.К. Щеглов, который объявляет неправомерными напрашивающиеся выводы относительно сходства Маяковского и автора «Гаврилиады»: «Все же едва ли стоит видеть здесь камень в огород М<аяковского>, чья личность заведомо не имеет ничего общего с фигурой халтурного поэта» [127]. Ардовское суждение о сходстве с Колычевым Щеглов находит достаточно убедительным. Мы не собираемся полемизировать с мемуаристами. Можно еще и добавить, что Колычев — земляк авторов романа, те знали его настоящую фамилию, вероятно, находили амбициозно-комичным выбор псевдонима, потому акцентировали созвучие «Сиркес-Ляпис» функциональным сходством псевдонимов: Колычевы — род боярский, Трубецкие — тоже старинный, княжеский, и при сочетании с фамилией Ляпис или Сиркес создается эдакий местечково-аристократический колорит.
Однако из этого не следует, что объект у пародии лишь один. Сиркес-Колычев обликом и манерами напоминает Ляписа-Тру-бецкого и не похож на Маяковского, зато на уровне текста сходство с Маяковским — как и в случае Бендера с Катаевым — трудно отрицать.
К примеру, в редакцию журнала «Будни морзиста», где требуются сюжеты «из жизни потельработников», т. е. сотрудников учреждений и предприятий Народного комиссариата почт и телеграфа, Ляпис приносит поэму о «письмоносце Гавриле», который, «сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу». На недоуменный вопрос редактора о месте действия — «в СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил, членов союза работников связи» — Ляпис дает убедительный, на его взгляд, ответ: «Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый». Несмотря на очевидную нелепость ответа, редактор берет стихи и предлагает Ляпису написать «еще о радиостанции». Аллюзии довольно ясные. В феврале 1926 года прессой широко обсуждалось совершенное группой неизвестных нападение на купе поезда «Москва-Рига» — там везли дипломатическую почту, дипкурьеру, погибшему в перестрелке с налетчиками, Маяковский посвятил стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». И «о радиостанции» Маяковский тоже написал: стихотворение «Радиоагитатор» опубликовано в 1925 году.
С Маяковским связана и поэма Ляписа, что была передана в журнал «Работник булки» — «О хлебе, качестве продукции и любимой», посвященная некоей Хине Члек. Заглавие пародийно воспроизводило легко опознаваемую структуру «агиток» Маяковского: «О “фиасках”, “апогеях” и других неведомых вещах», «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» и т. п. Что до посвящения, то здесь шутка авторов романа строилась на сходстве сочетаний «Хина Члек» и «Лили(я) Брик».
Характерно, что имя «Хина» созвучно не только названию популярного лекарства от малярии («любовная лихорадка» — распространенная метафора), но и названию краски для волос — «хна», ведь Брик была рыжей, о чем писал Маяковский, например, в поэме «Флейта-позвоночник»: «Тебя пою, / накрашенную, / рыжую…» В фамилии «Члек» угадывается